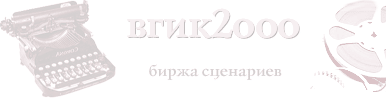
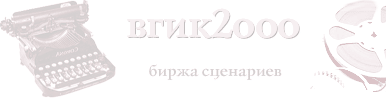 |
||||||
Белозеров АндрейЛИЦАрассказ самоубийцы
"...Ежели выяснится, что вся истина невыносимее ее половины, ежели подтвердится, что умалчивающие о ней правы, ибо своим умалчиванием сохраняют нам жизнь, ежели открытие твое обратит тихую надежду, которую мы еще питаем, в полную безнадежность, то все равно твой опыт будет оправдан, раз ты не хочешь жить так, как живешь..." (Франц Кафка) При жизни, до самоубийства, со мной случалось следующее. Ни с того ни с сего меня охватывало вдруг странное наваждение: я вдруг по-настоящему осознавал, что я - одинок... Может, я слишком далеко копнул, ведь одиночество - дело для меня привычное, обыкновенное; тут же проявлялось совершенно другое одиночество, иного плана, оно уже несло для меня отвращение к самому себе. Когда мои руки в очередной раз тянулись по какой-нибудь необходимости (а начиналось вдруг все с этого), то ли за сигаретами, то ли по другой надобности, - я вдруг смотрел на себя и уже чувствовал всего себя КАК БЫ СО СТОРОНЫ. Я чувствовал совершенно все: направленность всей моей, очерченной уже чуждым мне взглядом фигуры, ее потянувшееся движение вперед или назад, влево и вправо; и даже выхваченную чуждым взглядом моментальную задумчивость по этому же поводу. И в этом-то и было все отвращение: ВСЕ ПРОИСХОДИЛО КАК БЫ СО СТОРОНЫ! Какой-то мощный интеллект наблюдал за мною, за какой-то моей нелепой жизненной ужимкой - сущностью! Но вся-то беда в том, что интеллект-то был не чьим иным, как моим же... При жизни я немного был знаком с психиатрией и способен был тогда понимать, где все ж таки навязчивость, а где и вполне допустимое воображение. Так вот, это ощущение совершенно иного плана: ОНО - ПО ДРУГУЮ СОВСЕМ РАЗВИВАЮЩУЮСЯ ПЕРСПЕКТИВУ, оно не человеческое вовсе! Отвращение - тоже не совсем обычное, так что, может, и не отвращение вовсе, а какая-то новая категория, фантастическая... И, быть может, все это и было тогда предвестником моей будущей кончины! ...Через несколько мгновений после каждого появления отвращение превращалось уже в трудно уловимое для логических понятий знание - знание обо всем сразу... О, я тогда многое узнавал про себя и про других. Например, то, что положение мое в этом пространстве да и вообще наше положение в жизни напоминает жизнь и положение - кого бы вы, живущие сейчас, думали? - обыкновенного насекомого, большого и неуклюжего. Может, омерзение оттого и возникло, что каким-то фантастическим образом руки и ноги мои на мгновение казались мне какой-то стрекочущей порослью насекомого, отстраненной от обыкновенных осмысленных человеческих нужд... Затем являлось менее болезненное, не такое резкое и колючее: я превращался уже в медузу, в нечто скользкое и студенистое, в медузу, осмысливающую свое нахождение в пространстве, протяженность всего своего наличия здесь, сейчас. И опять-таки: в совершенном отдалении, отстранении от наделенности смыслом к существованию: любое чье-либо существование самоценным уже не казалось, тем более мое... Мне думалось тогда, я еще усмехался при этом: "Что если б дождь (а к тому времени за окном уже шел дождь) вдруг заговорил и начал осмысливать свое существование?" О, тогда бы он до многого додумался, обязательно додумался, что его существование неспроста, а со смыслом - с целью! А разве о чем-нибудь постороннем возможно вообще думать, кроме как о смысле своего существования?! Вот докатился!.. Все, все, являющееся мне и всюду, что можно себе представить, весь мир в жесткой хватке со мной отстаивает значимость и смысл своего существования: вся компания людская, все творения рук человеческих (а они-то до кошмарного ужаса налицо) - так и прут навязчиво в какой-то смысл, себя определяющее в пространстве положение... Ха-ха-ха - меня окружил идиотизм! Я не выдержал этой схватки и застрелился. |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Но сейчас мои похороны. Соседка по этажу успешно берется за проведение их; она порядочная женщина, отзывчивая, еще при жизни я замечал в ней патологическую склонность быть причастной к чьей-нибудь судьбе. Вот и сейчас она усердствует страстно, все берет в свои руки, по-деловому распоряжается, и не дай Бог появиться здесь постороннему советчику - это ее территория, ее власть. И лицо ее так и пышет чертовски торжественной монументальной гримасой... А мое лицо, что с ним? Мне так стало тошно его вспоминать, какое оно было при жизни. Ну впрямь, был бы я сейчас жив, то обязательно бы уткнулся опять по старой привычке в зеркало. И было бы мне разве приятно от этого влупленного в атмосферу за воздухом хобота - носа; от ждущих наполниться чувственной страстью пиявочных губ; от моха, который покрывает всякую залежалость, - волос; от бестолково осмысливающего всю эту суть лба? Меня бы смутило. Ведь в моем лице сидит, находится... чушь, самая огромная вселенская чушь! Она сосредоточилась, нашла в моем лице, во всем моем теле прибежище себе, в моей осмысливаемой совершенно бессмысленные законы мироздания жизни; она, наконец, назылась моей духовностью, нашей духовностью, нашим стремлением воспарять куда-то, вот только куда?! Но сейчас я мертв и подчиняюсь здесь своей соседке; и если бы вдруг я ожил, то строгой и замечательной соседке это б здорово не понравилось. Ведь она серьезная женщина и привыкла всему доверять. ...Моя соседка. Этой пятидесятилетней женщине почему-то всегда казалось, что она играет особое участие в моей жизни, что именно она знает путь в мое сердце, в отличие от других, и ей разрешается по каким-нибудь мелочам заботиться для меня. Доходило до того, что она даже просила для стирки мои вещи. Я даже чуть иногда не поддавался, но вовремя спохватывался. Ну и всякие другие ухаживания предпринимались ею: попытки помыть полы в квартире (ведь я один жил, и с виду обижен чем-то - вот и пожалеть сиротку), продукты из магазина приносить; по крайней мере всегда спрашивала: "А что вам захватить с собой?" "Да нет, спасибо, ничего", - отвечал я и почему-то всегда чувство- вал неудобство, постоянно опускал глаза... Причем в момент самых этих услужливых просьб и попыток пожалеть меня ее лицо почему-то приобретало всегда какую-то особую рыхлость, что мне с трудом оставалось в своем лице сохранять деланное радушие. Как все же приходится всегда что-то себе выражать, какая это вообще обуза - являться на суд людям... Соседка позволяла себе также и невинные расспросы. Мне всегда было неудобно с кем-нибудь вообще делиться о себе. Однако она настаивала. "Вы такой молодой, симпатичный, - говорила она, - жениться бы вам, а то что вы в холостяках ходите?" А я даже не знал, что ответить, нет, должно быть, отвечал, бубнил что-то под нос, но она не унималась: "Я б вам невесту подыскала, такую красивую и работящую". "Да ну, что вы, я уж как-нибудь сам", - подумать только, извиняясь, отвечал я... Вообще, меня настораживало, что я и так уже далеко допустил к себе ее, свою соседку. Ведь она чуть и до квартиры моей не добралась, ей все хотелось узнать, как там, и, может быть, посоветовать в чем-то - навести свое влияние. При жизни моя квартира всегда олицетворяла какой-то вселенский хаос, и вот когда я нечаянно запустил к себе свою соседку, так, на несколько минут, не по своей воле, - то она искренне возмутилась царящему в моих комнатах беспорядку... Теперь-то в моей квартире наведен порядок. Меня уже нет в живых - следовательно, и порядок уже устроился сам собой (или при помощи кого-то, но это уже не имеет значения). Соседка, конечно, добилась своего. |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Но я-то сейчас пока еще здесь - все равно главный! Лежу себе в гробу мертвец-мертвецом в своей собственной квартире (хотя она уже не моя с того момента, когда я прикончил себя, интересно, кому она достанется, и перевернется ведь все мое прежнее устройство, мои единственные следы), и внимание собравшихся приковано только ко мне. Правда, меня несколько тревожит этот соседский мальчишка, уж как-то он с интересом навязчиво вылупился на меня, пытается проследить, наверное, не проявятся ль в покойнике признаки легкого дыхания - "А вдруг он жив!" Да, дети всегда фантазеры: я сам так же когда-то выстаивал на похоронах и глазел в лицо умершему, мне все хотелось, чтобы именно я вдруг обнаружил счастливую развязку... Но теперь дудки, я мертв, и никаких гвоздей; мое лицо - самая восковая неподвижность, маска, и даже эта муха, которую постоянно отгоняют от него, не доставляет мне особых хлопот, - ПОВЕРЬТЕ, Я ЗАНЯТ СОСЕРШЕННО ДРУГИМ! |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
...Еще в морге я имел возможность перезнакомиться с некоторыми его скорбными обитателями, но особой радости от общения не представилось. Один умерший от пьянства сорокалетний мужчина, лежащий рядом со мной на соседнем столике слева, так был удивлен состоянием смерти, что полностью, с интересом угрюмо ушел в себя и на контакт не выходил. В нем чувствовалась такая сосредоточенность, о которой при жизни ему и не мечталось вовсе. Ну, я его и оставил в покое: бог с ним, пускай разбирается в себе, раз некогда было раньше... А одна девица, при жизни легкого поведения, лет двадцати, та, что на соседнем столике справа, была слишком возбуждена: ее чары почему-то не действовали на меня, такого фантастически туманного, являющегося каждым моментом всюду. Да, ее прижизненные соблазны оказывались здесь бессильны. Но я сжалился над ней, прошелся своим покровительственным туманом над ее дурашливостью и успокоил ее... В общем, тормошить по-настоящему, вызывать на общение уже не хотелось никого, разве что ожидать чье-либо добровольное откровение. Ведь их так много здесь, лежащих в этом мрачноватом одиночестве: авось кому-нибудь взбредет поделиться самому... И не обманулся. Понемногу в меня начали проникать (я еще не разобрал, от кого именно) какие-то сигналы, схожие, если сравнивать их с земными явлениями, с... нет, здесь не найдешь настоящего сравнения, ведь и сигналами это тоже не назовешь. Здесь какие-то накаты одного умершего сознания на другое. Здесь вообще было по-другому. И то, что происходило в тех условиях, мышлением и разговорами назвать нельзя; здесь было какое-то проникновение во все, тайное постижение всего, и ваши земные слова - из другой совершенно области. Все равно что пытаться объяснить то, чего никогда не видел, все равно что если и видел что-то, то не знать еще слов для определения всего этого. Словно первобытный человек не знает еще простейших коммуникативных речевых единиц и пользуется прикладной информацией: раскладывает камешки, жестикулирует, гримасничает, - так же и я сейчас пытаюсь "разложить камешки". Итак, "разговор" состоялся с самоубийцей, как я выяснил впоследствии; он тоже решил покончить с собой... Он меня, оказывается, давно уже приметил и в чем-то симпатизирует мне - еще бы, такие люди, как он, неспроста выходят на контакт, "разговоры" их очень трудно. Он говорил: "Все то, как я ощущал при жизни каждый прожитый день, как находился в том или ином пространстве, как передвигался в них, - все, все, вплоть до мельчайших чувственных переживаний: ощущения на себе одежды, созерцания окружающих предметов и явлений, чувства вдоха и выдоха, - все это являлось моей личной тайной, не раскрытой для всех, тайной, надрывающейся от невозможности быть значимой для всех. Моя шальная уверенность в том, что я что-то из себя представляю, и по большому счету, не покидала меня при жизни еще с самого раннего детства. Ведь в каждом человеке есть представление о самом себе, о своей личности - идея, которая и движет человеком на протяжении всей его жизни, определяет его мысли, эмоции, поступки. Мне же достается идея необычная и даже несчастная. А заключалась она в том, что я - не такой, как все, что я особенный, фантастически отличительный от всех, ну, неуловимый даже для определения логического, просто - выше всех их, остальных... Да, еще в раннем детстве, когда все, весь мир во мне начинал принимать форму, я с экзальтированным вдохновением внушаю себе эту мысль о моей исключительности, которая и определяет впоследствии всего меня, откладывает отпечаток на мое внутреннее развитие... Помню, ох, именно это помню: иду я по улице, шаркаю по асфальту своими подошвами. И еще тогда, в детстве, мне было удивительно, и даже вдруг фантастическое удивление охватывало меня: ведь как это я - и вдруг есть?! И я часто не обращал внимания ни на кого, кто идет рядом, люблю молчать и слушать - шаркать, молчать и слушать. И так изо дня в день: тот же асфальт, то же удивление. Я говорил себе: "Внимание: вот оно, существование, во всей своей отчетливости, а время, время - это чья-то бессовестная, глупая выдумка, ведь ничего-то не изменяется вообще!" ...Да, я прислушивался к себе, я думал о себе и всегда потом с удивлением в укромном месте рассматривал себя, все свое тело. Я мог часами простаивать у зеркала, никак не насмотревшись на себя. И не просто с умилением, но уже и тогда, в детстве, я с философским восхищением оматривал свой лоб, нос, глаза, думая про себя: "И как это все вдруг - и существует, вдруг и имеет все это, вдруг и находится при всем при этом - и все это вдруг и называется - МНОЮ?!" ...И вот тут, при всем этом самоощущении, тебя невольно вдруг подкараулит чувство своей необыкновенной значимости для окружающих. Что весь ты, во всех своих проявлениях, - удивителен и восхитителен для них, и что когда-нибудь тебе необходимо будет для них совершить что-нибудь - подвиг, наверное, какой-нибудь необычайный. Тогда меня и не волновало, что именно нужно совершить, - главное, что-то совершить и, совершив, остаться всем в диво... Да, когда-то я был маленьким, резвым и красивым мальчиком, и все меня очень любили, я доставлял всем радость и умиление. Помню, всегда в честь моего дня рождения устраивался удивительный праздник. Однажды мне подарили не то, что я ожидал. И вот я в обиде на всех и с дерзкой фантастической мыслью отомстить всем - проявиться когда-нибудь в чем-то великом - убежал в темный угол и долго в нем проплакал, представляя в своих детских мечтах великую будущность свою. О, как я был счастлив в те минуты; ведь тогда необходимо было искренне верить в свое чудо, всем нутром это ощущать... Но время шло. Я становился все взрослее и взрослее и почему-то вообще ничего не совершал: как-то все было удивительно устроено вокруг, любые начинания - чтобы постоянно ускальзывать от меня, увиливать. И не за что было уцепиться, во всем я чувствовал какой-то подвох: мое внимание на себе рассеивалось от любого человеческого занятия, от чего-либо вообще конкретного, проявившегося; а мне всегда хотелось быть при себе, во всем ощущать себя - хотелось чего-то непонятного и даже невозможного, того, чего нельзя и представить человеческой мыслью. Ведь всякому в жизни можно отдаться сполна, всякому себя посвятить, найти себе деятельность. Можно в чем-то великом явить себя миру, родить гениальную идею - ну а потом встретить подобных гениев и ряд совершенно гениальных идей, не уступающих по значимости твоей; так где же во всем этом - сам человек, где высвеченный в веках его лик, - и не просто скульптурное или живописное запечатление его внешности, - где его настроение, колыхающееся в индивидуальном, только ему свойственном ритме? Где та вселенная чувств и непередаваемых ассоциаций, которую он, гениальный архитектор, постоил в своем сознании - где она в объективности?! Сознание, с глазами и ушами, отражающее сиюминутность существующего и удивляющееся существованию существующего мира, - нет, не способное воплотиться в веках и на всю вселенную, - это СУМАСШЕДШЕЕ СОЗНАНИЕ! Да, во мне сверкнула дикая мысль: что я рожден только лишь для того, чтобы не найти себя (при обостренном самоощущении себя), а наоборот - потерять, сойти с ума, не найдя для себя достойного применения! Я РОЖДЕН, ЧТОБЫ СТАТЬ СУМАСШЕДШИМ! ...Но как только пришла мысль о сумасшествии, я понял, что ее я не вынесу и что она для того и пришла, чтобы я не вынес ее, не смирился с нею. Да, я не в силах был смириться с пониманием того, что я просто обыкновенный сумасшедший, и... застрелился! Судьба распорядилась иначе: я не стал сумасшедшим - я стал самоубийцей". Вот что он мне поведал. И я ему ответил. Я ему сказал о том, что он еще какой-то неоформившийся мертвец, что все в нем выдает страдальца пока что. Ну разве можно убивать себя из-за какой-то покоряющей тебя идеи? Для смерти нужно вызреть, созреть - и не идеей вообще, а всем ощущением своим. ТАК, ЧТОБЫ ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, ЖИВОЕ И ЖИЗНЕННОЕ КАЗАЛОСЬ НЕ ТУДА НАПРАВЛЕННОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ, СЛИШКОМ УЖ ВОЗОМНИВШЕЙ О СЕБЕ ВСЯКОЕ!.. Да, меня несколько раздосадовали эти его впечатления о жизни: какие-то они еще жизненные, какой-то надрыв в них, ну никакого спокойствия и величия смерти - как во мне. Ну что мне было ему еще ответить? Ну да ладно, наверное, даже глупо сейчас все это вспоминать... |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Но сейчас на улице хлынул похоронный марш, и кое-кто сразу же всплакнул - впечатлительности добавилось. От приносимых цветов и от частых всхлипований в воздухе появляется минорная липковатость. (Венки в квартиру не заносят, они выжидают своей очереди у входа в подъезд.) И в квартиру мою все заходят и заходят: друзья, соседи, знакомые (родственников у меня не было). А я лежу себе мирно и навожу на всех таинственность, ведь при жизни мне ее так недоставало; хотя я всегда из кожи лез вон, чтобы казаться заманчивым, - но выходили всегда из меня какието кривляния и жеманства. Так что сейчас у меня есть возможность по-настоящему отыграться! |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Да, при жизни я и перед собой даже кривлялся. Мне все чудились аллегории, и по большому счету - будто я бывал связан по рукам и ногам невиданными и невидимыми путами - и они не дают мне покоя, не дают развернуться сполна всему моему возвышенному, все отрицающему состоянию. Мне все казалось (образно, конечно), что меня постоянно одолевают какие-то таинственные силы, имеющие серьезное влияние на происходящее и не дающие покоя таким, как я, гордым и одиноким. Ох, как я кривлялся с самим собой по этому поводу. Как бились от напряжения эти пульсирующие жилки, что на висках, - ведь я путался средь всего нахлынувшего на меня (конечно же, образно, ведь я кривлялся). А лицо? Лицо вдруг начинало ходить, моргать, ерзать. А что с руками? А вот в руках появлялась возможность нелепо жестикулировать. Ведь необходимо было порвать эти невидимые путы (ну конечно же, образно). И было мне до ужаса неуемно и непонятно все это. И причиной всему - мысли, которые выговариваются вслух. Ну разве это мысли, если они вслух выговариваются, - это не мысли; только лишь то мысли, которые не выговариваются вовсе, а сводят постепенно с ума: жужжат и начинают самостоятельную жизнь - жужжа... Да, я делал изумительные пластические движения (образно) в надежде разорвать путы - и разрывал (так же образно), пытался уже вдохнуть глубже, но освобождения все равно не чувствовал. Во всем теперь были виноваты мои волосы: они кое-где слиплись, кое-где торчали уже вихрами, и лучше их было просто выдергивать - вот так, клочьями... Подбежав к зеркалу, я начинал понимать: виноваты не только волосы, но и нос - он какой-то не такой, как всегда; и губы - они тоже какие-то оставшиеся без внимания, а значит, брошенные и не соответствуют и даже не вписываются в общий рисунок лица. Но больше всего виноваты глаза: им не до внимательности, а все больше до беготни, до огня, до пожара. И все это несоответствие так меня злило, что лучше уж схватиться за лицо руками и мять его, мять, представляя, что оно пластилиновое! И все это в ожесточении, в страстном желании причинить себе телесную боль - искромсать себя неуклюжего, ничтожного в этом ничтожном мире!.. Убить себя было просто необходимо!.. Конечно же, я кривлялся, ведь не с ума же сходил. Или все же кривлялся, потому что сходил с ума? Нет, сходил с ума - потому что кривлялся! |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
...А за окном пошел дождь - будто сама природа накапливала скорбь и наконец прорвалась в чувствах по моему поводу. А мнето что? Мне все равно. Лежу себе и ухмыляюсь: ухмыляюсь природе, ухмыляюсь дождю, приходящим мыслеформам - тоже ухмыляюсь, ну и людям, пришедшим на последнюю встречу со мной... Вообще что-то непонятное для меня происходит сейчас в людях; мне как-то неловко находиться пусть даже в гробу, но все равно - рядом с ними. От всех них, людей, веет чем-то человеческим, неуловимым для потусторонней мысли ветром. Люди собрались скорбеть: по кому? по мне? Но кто я такой, кто? Ведь при жизни я был обыкновенным призраком. Я являлся во всей своей наглядности лишь только тем, кто находился рядом со мной в происходящий жизненный момент, лишь каким-то мгновением существовал я в чужом сознании - а дальше улетучивался. Улетучивался, с тем чтоб и в самом себе впоследствии не найти достаточной плотности, а только мелькать всю оставшуюся жизнь на уставленные в меня отовсюду людские глаза и стеклянные глазницы зданий... Да, мои руки и ноги - все мое тело при жизни передвигалось из одного пространства в другое, выбирало такое же наличие чьих-то рук и ног, сообщалось с ними, находило нечто общее, и это ОБЩЕЕ возводилось людьми в возвеличивающую степень. На самом-то деле ничего вовсе и не происходило, а участникам этого странного жизненного празднества... им такой казалось, такое!.. Вот и сейчас у них у всех воспаленное воображение по поводу происходящего. И вся эта внешняя торжественно-таинственная канитель, все эти похоронные марши, цветы, специально выбранная гробовая расцветка - все это плод необузданного разгулявшегося воображения. Они не меня провожают в последний путь - провожают самих себя, частицу себя - какие-то обрывки собственных настроений и переживаний, связанных каким-то образом с моим бывшим существованием. Вот эти престарелые женщины - те, что целыми днями сидят на лавочке во дворе, те, кому я кидал "здрасте" при встрече, - на самом деле возомнили, что при жизни я был хороший и отзывчивый человек. И они совсем не меня провожают в могилу, они уносят на кладбище то яркое ощущение "здрасте", которое бросалось им у подъезда; а мне были они - не совсем еще и приятны... А кое-кто считал меня при жизни подлецом, ну девицы всякие, с которыми я резко обрывал отношения (не любил я долгих, тянувшихся, как жевательная резинка, отношений с ними), - и вот они создают уже другой образ меня и пришли его провожать... Даже она пришла - моя последняя женщина, та, что такое возомнила себе, чего я и сам не позволял себе. Она как-то говорила мне, что знает меня со всеми моими потрохами - знает лучше, чем кто-либо (?!)... Я держал руку на ее обнаженном плече, слушал и поддакивал, а она продолжала. С ее слов я являлся себе жалким и слабым созданием, отдающимся воле ветров, не приспособленным к действительности; и что такое ничтожество, как я, необходимо жалеть, что она с успехом и делает... А я смотрел ей в глаза и думал: "Вот ведь человек находится со мной рядом, живой, и что-то там себе пытается мыслить, что-то говорить, а я, опустошенный и бестолковый, не нахожу вовсе какихнибудь слов. Во мне сидит только тихий ужас от сознания того, что я, оказывается, существую и что для меня отведено какое-то совсем не нужное место в сознании у тех, кто проходит по моей жизни!" ...Доходило до того, что меня уже настораживало не только место в чьем-либо сознании, но и сам факт существования моего ненужного сознания доводили меня до чертей. Я должен был быть ответственным за установленный порядок вещей: принимать все как факт, действовать в жизни и не раздумывать, а то, что существует нечто таинственное и неприемлемое для меня, - пропускать мимо. Вот до чего докатились все люди, следующие меньшему сопротивлению: они ловко покатились по той указанной кемто, наделенной смыслом дороге, и их слаженный, будничный, спокойный уклад говорит за то... У меня же вообще не было никаких сопротивлений, я снял их: мне было ужасно, что мир вообще существует, СУЩЕСТВУЕТ В КАЖДОЙ СВОЕЙ ЧАСТИЦЕ, НАВОДЯЩЕЙ УЖАС, С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ СОЗНАНИЯМИ, НАВОДЯЩИМИ УЖАС, С УЖАСАМИ, РОЖДАЮЩИМИ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ НОВЫЕ УЖАСЫ!.. И она-то мне говорила, что знает!.. Я - тот, кого хоронят сейчас, - не знал вообще, кем я был при жизни, не имел точного чувственного свидетельства. А они собрались все, нарисовали какой-то удобный для себя образ и теперь провожают его. Если б хоть край моих потусторонних ощущений коснулся их сейчас - они бы возмутились, поморщились, как от вида неприятного насекомого; разбрелись бы с омерзением или, того лучше, побрызгали бы меня дихлофосом! |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Моя последняя женщина. Любил ли ее я? Наверное, да... Но позволялось ли мне назвать это счастьем - ведь все у нас происходило с каким-то надрывом, с постоянным страхом? Всегда в наших отношениях присутствовала таинственная настороженность, внутренняя лихорадка. Но по какому поводу? Ведь ничего-то вообще нам не угрожало. Конечно же, дело было только во мне: я был при жизни просто псих, и этого достаточно, чтобы очернить все вокруг... Странное дело, когда я находился в совершенном одиночестве, один в квартире или в каком-нибудь открытом пространстве, то вообще ничего не чувствовал - то есть сама трезвость и чувственная непоколебимость; но стоит ей, живому существу, женщине, очутиться рядом, как сразу какой-то комок поднимается к горлу и давит, давит, напоминает, наверное, об ответственности за живое существо, за чувства, за любовь. (Любовь - вообще, оказывается, нечто страшное, да и все вокруг, все, весь мир, вся вселенная - это страшно, ко всему этому - ответственность ценою в саму твою жизнь.) Представить только: вот мы, два пригретых друг другом существа, ютимся в нежностях в этом пространстве, в моей квартире, защищающей нас, теплых и мягких, от звезд, от невообразимой огромности всего остального раскинувшегося мира. И как-то жалостливо все это происходит, какая-то щемящая мелодия присутствует во всем: наша пригретость друг другом, наша беспомощная заброшенность природой в данный происходящий момент так называемого счастья - все тихо, все укромно, настороженно как-то... А она интуитивно хватала мои настроения, и, должно быть, ее настороженность была результатом вот этого моего беспомощного раскисшего состояния. Ей бы объясниться со мной - но нет, она тонкая и чуткая, - так что лучше не подавать ей виду, что я нервничаю. Она настораживалась оттого, что я был не в состоянии избавиться сам от настороженности, оттого, что поглотившее меня настроение было совершенно не мужским, оно было бесполым. Да, моя настороженность оттого и была, что я чувствовал обязанность быть в этих условиях мужчиной, то есть по-настоящему называться защитником, сильным полом, способным защитить всю эту нашу пригретость и нежность. Но от кого защищать?! От себя, слизняка! Ведь я всегда был слизняком, хотя мне всегда доводилось играть перед всеми в жесткую мужественность. Это выражалось во всей моей направленной на постоянную игру внешности: поставленный, твердый мужской бас, уверенная жестикуляция, стремительная поступь, проникновенность взгляда. В общем, все выдавало во мне всегда настоящего мужчину. Хотя и было мне смешно, что я наделен чем-то по существу определенным: ведь где-то там внутри я себя вообще никем не ощущал, ну совершенное отречение от всегно отчетливого, резкого и решительного. И вот как же со всем этим мне было находиться рядом с ней, с человеком, обратившим часть своего внимания на меня, на которое необходимо было дать ответ?! Во мне наблюдалось тогда недоумение. Ведь как я вообще способен находиться рядом с человеком, поглаживать его по плечу, слушать, по крайней мере воспринимать его - мне необходимо было через усилие верить в то, что между нами что-то происходит. В то, что мы находимся одни, и каждый со своей внутренней задачей, со своим ожиданием чего-то. НО ЧЕГО МОЖНО БЫЛО ОЖИДАТЬ ОТ МЕНЯ? Моя рука тревожно замирала при таких ощущениях. Даже когда поглаживал ее по плечу, я чувствовал неизбежную ответственность, которая свалилась на меня ни с того ни с сего... Я был жалким и внутренне беспомощным; разбитым, но все же старался скрывать это - не то бы она отшатнулась от меня, словно при виде мерзкого насекомого... Да, я боялся показать ей, что я попросту сумасшедший, и что она находится в одной комнате с сумасшедшим, и что это, должно быть, нестерпимо ужасно: ведь сумасшедший испускает из себя в пространство нечто таинственно-угнетающее, загадку, от прикосновения к которой охватывает жуткое омерзение. Ох, если б она догадалась о моем настоящем, моем внутреннем - она бы очутилась лицом к лицу перед сумасшествием. ...Я уже совершенно четко начинал догадываться, отчего сумасшедшие начинают продолжительно смеяться, почему их охватывает судорожный страшный смех, - они чувствуют вдруг, ЧТО ВСЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ НАПРАСНО! - все, все, что происходит вокруг, что раньше создавало какую-то уверенность, веру, что несло непоколебимость во взглядах и обычаях, непреложность вообще всех истин, - ВСЕ ВДРУГ ПО-НАСТОЯЩЕМУ, ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ НАПРАСНО И ГЛУПО! И оттого, что все глупо, хочется смеяться. И чем контраснее эта космическая глупость, тем восторженнее, тем заразительнее вызванный ею смех... Но потом наступают тягостные поиски хоть какого-то, мало-мальски удобного для самого себя смысла (такова природа сознания - определиться, закрепиться) - и сумасшедший что-то там себе таинственно нащупывает, пытается уцепиться за нить, и без того уже запутанную в нервном хаосе образовавшегося клубка. Начинается психоз. Но это все не для нее. Мне нельзя так публично расслабляться. Приходилось насиловать себя и вести достойную, так необходимую для людей игру. Я говорил себе: "Крепись! Неси крест впечатлений своих и сумасшествия своего по всей жизни!" ...Но для чего в конечном итоге?! Для чего я вообще должен воспринимать этот мир - ходить ошарашенный изо дня в день, слоняться, изжигаемый усмешками и недоумением в этом принятом всеми и наделенном надежностью и смыслом устройстве... Я ожидал взрыва. И если не тогда, наедине с ней, то в ближайшем будущем... |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Но сейчас она смотрит на меня, тихо вытирает платком глаза - и понимает ли теперь меня по-настоящему? О чем ей может думаться, вот сейчас? О том, что утеряла меня навеки? Что не до конца знала меня? Или вовсе уже не знала? Что вот он, я, лежу сейчас посреди комнаты - холодный, не познанный никем, и сплошное благородство невидимой пеленой исходит из меня, заволакивает всех присутствующих. Каков ведь замечательный этот слепок моего лица. Как замечательно все вокруг! И это я, я, мертвец, навеял на всех эту похоронную музыку присходящего... Когда-то, в детстве, я умиленно прислушивался к таким вот процедурам, прислушивался, и словно уже возникал в воспаленном воображении весь сейчас совершающийся (сладко-щемящий для детского ощущения) ритуал... Но сейчас все! без ощущений! Ощущения позади. Жизнь была сплошным ощущением, беспрерывным и тягучим, скользким и музыкальным. Я словно всегда был замызган, втянут в болото постоянными, вытекающими одно из другого, чередующимися переживаниями... Сейчас уже меня понесут... Понесут. Соседка ведь уже отдает распоряжения, чтобы гроб мой поставили у подъезда - так надо - еще на несколько минут. Соседка как-то не по-скорбному суетится - чувствует, что ее хлопоты ладятся, и осознает свою нужность. Понесли. Я всколыхнулся немного при поднятии гроба, но тут же успокоился. Ведь соседка окидывает меня пристальным взором: все ли в порядке? Мужчины из похоронного бюро, те, что несут гроб, уже небось пьяны, и это моей соседке здорово не нравится; так что не дай им Бог совершить какую-нибудь оплошность... А попробуй-ка здесь разгуляться еще каким-нибудь моим оплошностям, моим шалостям? Ох бы, комедию устроил! Вся жизнь - комедия. Я это только сейчас осознаю отчетливо, с какой-то настоящей стороны... Они, все собравшиеся, участники этого фарса, этих слез и воспоминаний, они уверовали свято в непреложную истину: жизнь есть нечто, дарованное неспроста, нечто восхитительно-особое! ПО моему же мнению, жизнь и не нуждается в таких громких определениях, ничто ее так не красит и вовсе не восхищает, - ВСЕ ЭТО УЛОВКИ ЧУВСТВА САМОСОХРАНЕНИЯ, ДАБЫ НЕ РАСПАСТЬСЯ НА ЧАСТИ!.. Да, вокруг меня настоящий идиотизм, с общей навязчивой идеей. Это можно почувствовать, если взглянуть потусторонним взглядом, с каким благоговением подергивается сейчас воздух, в котором я плыву, плыву, несомый на чьих-то крепких руках... Гроб выставляют на улицу, и теперь каждой человеческой особи можно наглядно убедиться: ВОТ ОНА, СМЕРТЬ! Выползай, человек, из своего пригретого логова - квартиры, выползай и ужасайся, вой от тоски: то, что тебя караулит где-то там, в далеке твоих мыслей, то, что ты постоянно гонишь от себя в надежде никогда не узнать, - все это вот сейчас выплыло в гробу и установилось как неизбежный факт перед твоим, человек, сознанием. И делай с этим что хочешь! |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Тот день, когда я прикончил себя, - он смотрел на меня из окна. Не напряженно, со страхом, что произойдет сейчас нечто страшное, - нет, он смотрел на меня совершенной безликостью: деревья, по обыкновению, тянулись куда-то, растопыривая, как капризные дети в поисках желаемого, свои конечности-ветви; проезжающие туда-сюда машины бессмысленно жалили мой слух; земля, небо, предполагаемые галактики - все это скомкалось в сгусток невероятного желания что-то из себя значить, но не значило вовсе, а только всем своим видом пыталось прокричать, что все оно - ЕСТЬ! (Но ничего не получалось, как не получается крикнуть той рыбе, которую выбросило на сушу...) "Ну и что?.. - думал я. - И пусть себе есть", - а сам уже вертел в руках старый дедовский маузер, и все удивлялся тому, что как-то без трагедии получается, наоборот - с вдохновением, с шальной мыслью. (Нет, трагедия была, но только раньше - вся моя прошлая жизнь была трагедией; и только эти мгновения, когда я взялся-таки за пистолет, были ясными и чистыми...) Я вертел пистолет в руках, невольно размышляя, что вот она, грозная увесистая вещица, используемая в далекие военные времена, не до конца еще реализовалась и что ее, пролежавшую долгое время, берет сейчас в руки настоящий сумасшедший. Вот она, эта шальная мысль: Я - СУМАСШЕДШИЙ! Даже как-то забавно становилось. Но кривляться перед собой я уже не стал - да, кривляния уже позади... Но нес ли я ответственность, что кривляния... позади, что сейчас произойдет нечто решительное и неповторимое и что ведь никогда не изменишь содеянного? Ответственности я не нес! Мне было наплевать, наступит ли завтрашний день и будут ли вообще дни, человеческие, тянущиеся в выжидании чего-либо. Мне даже было уже невмочь оставаться в этом, пока еще человеческом, раздумье по этому поводу. Но подошел к зеркалу, все еще держа пистолет в руках. Случайно взглянул на часы - они привычно себе на стене выдавали такт, - но времени я не разобрал. Нет, я уловил положение угла стрелок, но меня охватило такое безразличие, что всматриваться в сущность самого циферблата, самого времени я не смог; мои чувства уже не улавливали смысл текущего времени и того, что же оно из себя представляет. Я понимал только одно: время для меня заканчивается - ваше, человеческое, время для меня исчерпано, и к чему здесь знать точный час своего убийства. ДЕНЬ БЫЛ БЕЗ ЧИСЛА, И БЫЛО ЭТО МЕЖДУ ДНЕМ И НОЧЬЮ... Впрочем, время пока еще существовало - безликое, неопределенное для меня. Оно говорило мне: "Вот ты еще здесь, ты жив пока этими условиями - человеческими, и человеческие условности толкают тебя стать нечеловеком!" Но мне уже не хотелось разбираться во всем этом, я далек был от философии. Мне уже ничего не хотелось. Я полон был только одним благородным намерением: мне хотелось взорвать время, уничтожить его, взорвать все вокруг, то есть самого себя, - уйти от этой ответственности нахождения в вашей жизни, в том, что вы так удобно понастроили для собственного же восприятия, для собственных нужд. Но все же - у зеркала. Уже подошел к нему. Решил напоследок взглянуть на себя. И что же? Опять они, эти глубоко посаженные, задумчиво вспыхивающие зеленые глаза; опять этот тяжелый, с выпуклыми надбровными дугами лоб; этот чувственный подбородок. И все это мое и, если быть правдивым, пользовалось мною... Но есть ли во мне четкая чувственная уверенность (я не говорю о фактической уверенности), что все это пользовалось по-настоящему мною?.. По-моему, я же не из тех, кто с жадностью, особо не раздумывая, хватался за первое попавшееся под руки, то есть самого себя, и действовал, жил, искренне реагировал на происходящее. Я был не из тех, кто взахлеб пожирал свою жизнь в надежде на долгий, вихрастый, несущий постоянную смену декораций путь. Создавалось впечатление, что я всегда занимал чье-то место, а точнее - что я не просто здесь лишний, но вдобавок и нахальный бездарный актер, который все-таки добился своего - получил желанную роль, но, выйдя на сцену, вдруг растерялся, засмущался вконец от неумения подать себя, от вялых, неискренних текстов, лживых диалогов с партнерами по сцене. Да, лишний! Кто-то бы схватил все это мое внешнее наличие в охапку и осчастливился бы явной возможностью к реализации... И что же актер, очутившийся в прострации, для которого каждое его продвижение по сценическому пространству наслаивается неуемным колыханием выхваченных о самом себе сознанием кадров, подчеркивающих всю его неуклюжесть и нелепость со стороны? Актер раздражается, актер нервничает. Он ненавидит себя, ненавидит окружающих; но живет, каждый день выходит на сцену, бубнит что-то по-прежнему, и его называют бездарностью. Но однажды его все же подкараулит мысль, что единственный шанс быть самим собой, единственная правильная тональность на пути к себе - это разыграть на сцене самоубийство!.. Отошел от зеркала, уткнулся в непроглядность. Нужно было различать все вокруг, но чувства не повиновались мне. "Скорее, - услышал я вдруг шепот, исходящий, наверное, из меня, - скорее! Ну же!" Я взглянул на пистолет и улыбнулся. Еще улыбнулся, но уже тому, что никто не узнает этой моей прощальной улыбки. Я впервые почувствовал настоящие мгновения существования... И... выстрелил прямо в область сердца! Объективность разверзлась для меня по-настоящему. |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Кладбище. Люди вдыхают и выдыхают воздух, как нигде в другом месте; настороженность, тихая вежливость, тихая вдумчивость, тихая выносливость друг друга... Мертвых больше, они кругом, только слепые их не замечают. Я вижу, как мертвецы - кто съеденный червями до костей, кто просто высохший, как мумия, - расположились повсюду, владея своим имуществом: кто обыкновенным крестом, а кто и дорогим мраморным сооружением... И тут я делаю рывок, такой простой и свободный, и что-то впрямь выходит из меня, сворачивается в целостное облако и поднимается над землей, над процессией, над кладбищем, над могилой, в которую опускают уже мое тело. Я из любопытства кружу еще некоторое время над всем этим, пытаюсь уловить свое настроение, но оно - бестребовательно ко всему. Тогда поднимаюсь выше. И что же я вижу? Я вижу все разом! Мировой город покрывает планету. Каждому живому существу отведена своя полоса в пространстве города; она начинает свой путь по выходу из квартиры, проносится по лабиринту метро, сверкая восторженным онемением, и выпархивает на безжалостное судилище взгромоздившихся отовсюду и всерьез заявляющих о своем существовании бетонных исполинов - небоскребов. Город манит к себе всех! Для каждого он распростер свои объятия. И живые существа так и жаждут этого необыкновенного единения - закрепления своих мягких и беззащитных сущностей в чем-то твердом, незыблемом. Но это кажущееся радушие города. Человек всегда остается выброшенным из города, хоть и находится в нем. Человек стремится к городу, но пространства города одурачивают всех, находящихся в них. Человек, как за кокетливой женщиной, увивается за городом, но город только заигрывает с ним и манит в бездну все дальше и дальше - бездну полнейшего непонимания... Мне остается усмехнуться при мысли, что город - как огромное насекомое - вдруг уползает куда-то от людей и люди чувствуют себя одураченными и беспомощными. А ЕЩЕ ОНИ УЖАСНУТСЯ, ЧТО ГОРОД ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ ИМЕННО НАСЕКОМЫМ, СОВСЕМ ДАЖЕ НЕ РОДНЫМ ИМ, НЕ БЛИЗКИМ. А ОНИ-ТО, ДУРАКИ, РАССЧИТЫВАЛИ НА НЕГО! КОНЕЦДомашний адрес: Молдова, 32ОО, г. Бендеры,
|
||||||
copyright 1999-2002 by «ЕЖЕ» || CAM, homer, shilov || hosted by PHPClub.ru
Счетчик установлен 16 мая 2000 - 1172