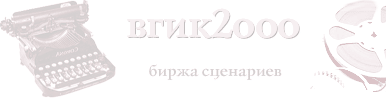
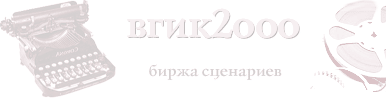 |
||||||
15 июля 1841 года великий русский
поэт Лермонтов был убит в Пятигорске отставным майором Мартыновым.
|
||
13 мая в пять часов утра я вошел в общую комнату Георгиевской станции. Алексей и наш случайный попутчик офицер Магденко уже сидели у самовара. Я сказал Алексею: — Монго, а не послать ли нам все ко всем чертям? — Господь с тобой, — отвечал Монго и опустил выпуклые веки. Он моложе меня, но у нас игра, что он — старший и всегда знает, как быть. Он — большой, а я — маленький. Он — лев. — Я не понимаю вашего влечения к трудностям боевой жизни, — неожиданно вступил в разговор Магденко, — Подумайте, какие удовольствия вас ожидают в Пятигорске, в хорошей квартире, с удобствами и разными затеями. Окно было в синей раме. За окном лил дождь, на стекле звенели мухи. — Это никак невозможно, — опять сказал Алексей, отвинчивая розовыми пальцами серебряную пробку. — А почему? — спросил я быстро. — Там комендант прежний — Ильяшенков. Кинемся в ноги... — Помилуй, мне поручено отвезти тебя в отряд. Вот подорожная, а там — инструкция. Я вышел из комнаты. Во дворе наши люди уже запрягали. Я вернулся. — Едем? — Сам подумай, — вздохнул Монго. — А вот — пожить и не думать! — Успеете под пули, — сказал жалобно молодой Магденко. Тут я вынул из кошелька полтинник. — Вот, бросаю. Если упадет кверху орлом — едем в Темир-Хан-Шуру, если решеткой — в Пятигорск. Согласен? Столыпин молча кивнул. Русский человек — на то и знал правила, чтоб им не следовать. Я бросил полтинник. Он упал вверх орлом. В армию... — В Пятигорск! В Пятигорск! — закричал я и кинулся объявить людям. Они вбежали и упали на колени перед Монгой, благодарили. Нелегка пришлась бы им жизнь в отряде. — Так загадали же наоборот? — удивился Магденко. — Нет, все верно, — важно сказал Монго. — Судьба. |
||
Я люблю ехать. Мне кажется — там, куда едешь, все будет иначе. За дождем не видно было гор. — Монго, через сорок верст Пятигорск — солнце! Мы ехали в коляске Магденки, я и он на задней скамейке, а Монго — перед нами, и дождь бил в лицо нам, а не ему; так было хорошо, он понимал комфорт больше меня и всегда был барин. Магденко ждал, чтоб началась полезная беседа, для того нас к себе и пригласил. — Позавчера в семи верстах отсюда зарезали проезжего унтер-офицера, — сказал Магденко. — Вы думаете, это знак? — спросил я. — Какой знак? Я никогда ни с кем не бываю вполне откровенен, разве что со случайными людьми. — Часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычному глазу трудно ошибиться, — сказал я. — Не кажется ли вам, что и события, подробности нашего пути подают такие же знаки неизбежности? — Я не об этом, — с жаром отвечал Магденко. — Дороги опасны, но как они дурны! В дорогах словно изображается общее положение дел в России! У графа Сологуба в сочинении об этом сказано замечательно смело. У меня записано... да я и так помню :"...скучно ездить по святой Руси, нечего греха таить, куда как скучно! Горе вам, горе, горе, горе? Дорога делается все хуже... Грязно, скучно, досадно!". У меня тяжелый, неприятный взгляд, его не все выдерживают. Нет, он не боялся. — Вы думаете, у Сологуба намек? — спросил я заговорщически. Он даже фыркнул. — Вы не согласны с общим положением дел в России? — спросил я. — Мишель, оставь, — предупредил Монго. — Я читаю, думаю, — сказал Магденко, радуясь умному разговору, — стараюсь иметь свое мнение. — А что вы думаете о государе? Он струсил. — Вот я думаю, что он на всех на нас сидит орлом. Это мое мнение, а ваше? — Такое жестокое мнение мне кажется преувеличенным, — пробормотал Магденко. — "Мне не нужна полиция. Вы — моя полиция", — вспомнил я. — Простите? — Это его величество — к дворянам, — сказал я. — Вы из Сологуба читаете, а я из него... Монго, дьявол, сера! Сквозь дождь пахнет!.. — Чем пахнет? — растерялся Магденко. — Дерьмом, — отвечал сквозь дремоту Монго. — Серными водами пахнуло, господин помещик! — засмеялся я. — Пятигорском, Востоком, приключениями! — Вы все шутите, — сказал Магденко, сбитый с толку. — Я не помещик, а ремонтер Борисоглебского уланского полка. — Спасибо, господин ремонтер! Я пожал ему руку. — Вы нас увезли в Пятигорск, от смерти спасли! Мы въехали в город, свернули с Казачьей улицы на бульвар. Впереди — близко — стоял Машук; и точно, светило солнце! Беззаботная водяная публика шествовала на гору — к колодцам. Ветер, прогнавший бурю, прошумел липами на бульваре. |
||
В Тарханах всегда ветер. 2 января 1810 года дед Михаил Васильевич устроил маскарад и спектакль. Играли "Гамлета", и сам дед выступал в роли 1-го могильщика. Все это делалось как бы в честь пятнадцатилетней Машеньки, будущей моей матери. Она, испуганная, была в центре шумного веселья пензенских помещиков. Но в самом деле причина стараний деда была другая, и вся щедрость его натуры человека екатерининского времени была вызвана страстями отнюдь не отцовской любви. Праздник был не по средствам широкий. Гостей было много — даже для просторного дома: гостили в те времена с детьми, с приживалками, учителями и шутами. Деревянные лавки, сбитые нарочно для представления, были выложены бархатом, и десятки лакеев — переодетых на этот случай дворцовых и мужиков — столбами стояли в каждом простенке. Занавес был украшен наскоро золотым шитьем. Могильная земля в пятом действии была настоящая тарханская угольно-черная земля. В духоте, в копоти сотен домашних свечей гости слушали в гробовом молчании, в жадном и подлом любопытстве угадывая особый смысл, вложенный дедом в слова роли. В семье было неблагополучно, и спектакль получался двойной. Измученная, совершенно одинокая в этой толпе бабушка прижимала к себе дочь, а у ног ее лежал дедов, выписанный из Москвы карлик, и смеялся над ней. Истинная жизнь человека есть собрание событий хоть и известных другим людям, но таких, которым другие не придают важного значения. Представление других о человеке — всегда только желание видеть его хорошим или плохим, добрым или злым, достойным или недостойным, открытым сердцем или эгоистом. Но в нас все перемешано, и наша нравственная борьба, которую мы ведем всю жизнь, которая и есть наша жизнь, всегда своя, особая, неповторимая. Движущим нас событием может быть даже не то, что было с нами, но даже случившееся до нашего рождения. — "Разве такую можно погребать христианским погребением, которая ищет своего же спасения?" — спрашивал дед с особенной страстью. — "Я тебе говорю, что можно, — бормотал в ответ 2-ой могильщик, крепостной Максим, камердинер деда, — и поэтому копай ей могилу живее , следователь рассматривал и признал христианское погребение". — "Как же это может быть?! — крикнул дед. — Если она утопилась не в самозащите?!". — "Да так уж признали"... — "Требуется необходимое нападение! Иначе нельзя! Ибо в этом вся суть: ежели я топлюсь умышленно?.. Погоди. Вот здесь тебе вода... — Дед перескакивал в тексте. — Вот здесь тебе вода! Хорошо. Вот здесь тебе человек; хорошо. Ежели человек идет к этой воде и топится, то — хочет, не хочет — а он идет. Заметь себе это! Но ежели вода идет к нему и топит его? Кто неповинен в своей смерти, тот своей жизни не сокращает!". — "Хочешь знать правду? Не будь она знатная дама, ее бы не хоронили христианским погребением", — сказал Максим, стараясь держаться от деда подальше, даже вовсе покидая могилу Офелии, которую копал. — "То-то и есть! И очень жаль, что знатные люди имеют на этом свете больше власти топиться и вешаться, чем их собратья христиане. Ну-ка, мой заступ. Нет стариннее дворян, чем садовники, землекопы и могильщики: они продолжают дело Адама!". Дед схватил Максима, притянул его к себе и прошипел в ухо: — Где Мансырова? — Четвертого гонца посылали — нет ответа, — оправдывался шепотом Максим. На первых скамьях слышали и передавали. Бабушка сидела неподвижно. Машенька глядела на ее лицо и плакала — тихо, громко не смела. — "Кто строит прочнее каменщика, корабельного мастера и плотника?" — спрашивал могильщик-дед. — "Виселичный мастер. Потому что его сооружение переживет тысячу постояльцев", — отвечал могильщик-камердинер. — "Твое слово мне нравится. Виселща — это хорошо. Это хорошо для тех, кто поступает дурно. А вот ты поступаешь дурно, говоря, что виселица прочнее церкви. Отсюда — виселица была бы хороша для тебя"... Привези мне сюда Мансырову. Она же обещала быть! — Так стараемся, Михайло Васильевич... "Кто строит прочнее каменщика, корабельного мастера и плотника?". — "Могильщик! — крикнул дед. — Дома, которые он строит, простоят до судного дня". Поезжай сам и привези! — Жалко! — одними губами сказал Максим. — Барыню жалко... Люди слышат. — Занавес задвигайте! — приказал дед. — Кончена пьеса! Занавес скрыл их, только голоса звучали на радость всей Пензенской губернии. — Сам поезжай, Максим, уговори! Скажи — все отдам, жизни не пожалею! Слуги выносили скамейки, гости поздравляли Елизавету Алексеевну. — Михайло Васильевич —замечательный талант. Ему бы Гамлета играть, а не могильщика. — Стар он Гамлета играть, — резко отвечала бабушка. Максим в зипуне поверх костюма могильщика пошел через двор к конюшням, скрылся в метели. Ветер свистел в ледяных ветвях яблонь. В зале уже танцевали. Музыка была своя, играли нестройно, но громко. Домашние чувствовали беду, все валилось из рук. Переодетые лакеями мужики роняли бокалы с лимонадом, наступали гостям на платья. И гости были, как ряженые, — исправно играли роли гостей, а сами ждали возвращения Максима. Об его поездке уже знали все. Только хозяева отбросили всякое притворство: дед желал видеть свою любезную, бабушка ненавидела его. Нигде так не соблюдаются приличия, как в провинции. Все продолжали танцевать, когда вернулся Максим, но все увидели снег в его бороде и усах. — Был в Онучине? — не таясь спросил дед. Максим наклонился к его уху: — К Мансыровой приехал из службы ее муж. Видеть мне ее не пришлось. В доме огни уже потушены, они легли спать. Так что ждать ее на маскарад никак нельзя. — Легли спать? — переспросил дед. — Судя по всему, легли-с. — Кресла мне, — сказал дед. Максим подал кресла. Дед сел и позвал: — Лизанька! Бабушка подошла как механическая кукла. Дед посадил ее справа от себя, а Машеньку слева и сказал: — Ну, любезная моя Лизанька, ты у меня будешь вдовушкой, а ты, Машенька, будешь сироткой. После этого Михаил Васильевич встал, вышел из зала под презрительным взглядом бабушки, подозревавшей очередное фиглярство, достал в буфетной из шкапа пузырек с каким-то зельем, залпом выпил и вернулся в маскарад. Он рухнул на пороге ничком, и изо рта у него пошла обильная пена. Музыка смолкла, и дамы завизжали с ужасом и сладостным ощущением в глубине души ожиданной романтической развязки. Бабушка опустилась перед дедом на колени, лила молоко в стиснутые зубы, Машенька билась в истерике, а гости кинулись вон из дома, как от чумы. Открыли окна пустить воздух, и ветер гулял по зале. Гости бежали. Сани исчезали в метели. Елизавете Алексеевне сделалось дурно. Ей терли виски уксусом. Она открыла глаза и сказала; — Собаке собачья смерть. Упала на труп, обняла мужа и зарыдала. |
||
|
||
Освещенная солнцем лысая голова Машука была близка. Маленький Пятигорск сверкал изумрудной листвой и белыми стенами своих глиняных домишек. Мы, мокрые до нитки, обгоняли толпу, двигавшуюся к источникам. Я толкал коленом Монго. Он был невозмутим и только чуть кивнул, но взгляд его скользил внимательно, ноздри подрагивали, как у охотничьей собаки. — Монго, посмотри, они привыкли к этой райской жизни. — Они спокойны, — сказал Монго, — нас не ждали. — Но мы приехали! — Господа — вот и мы! — закричал вдруг Монго к ужасу Магденки, совсем не ожидавшего такого от его великолепия. Он большой, я — маленький. Очень смешно, меня знают в этом городе. Вот папаша уже одернул заглядевшуюся дочку, зашептал на ухо жене. Что может быть приятнее дурной славы? -Я выпрыгнул на ходу из коляски. Монго удержал твердой рукой Магденку, пытавшегося спасти меня. — Здравствуйте, тетушка! — воскликнул я даме, где-то я её видел и наверняка она родственница, все — родственники, но рядом стояла такая племянница — просто прелесть! Я поцеловал тетушке руку. -— Мишель! Я так рада вас видеть. Катенька, познакомься. Это твой кузен Мишель! И вправду — родственница. Катенька — совсем девочка, не умеет лгать, очень удивилась, когда я прыгнул. Черненькая, смотрит, не мигая. Я к ней и прошептал: — Думаете, с себя ли я писал Печорина? — А?.. — Как хорошо, что вы здесь, Мишель. Мы все одни... — кокетничает тетушка. — Я вам не дам скучать. По-родственному. До свидания. В волосах у Катеньки золотое бандо. Когда я уже снова в коляске, она оглядывается, и тетушка делает ей замечание. — Не суетись, — сказал Монго отеческим тоном. — Мы безо всяких прав, а ты уже шалишь. Нас арестовать могут. Мы дезертиры. — Скорей к Найтаки, — сказал я. — Ванна, чистое белье, боже мой, — вздохнул Монго. — Дамы! — Эдакое восточное, — сказал Монго мечтательно. — Гречанка... — Немедленно. — Ах, господа офицеры, — засмущался Магденко. — Но сперва ванна, — сказал Монго. — А гречанка? — Потом. — А если она будет молить, упадет в ноги? — Ванна, — сказал Монго, — впрочем, увидим. В воздухе был аромат надежд. — У Найтаки девицы — на любой вкус, — шепнул я ремонтеру. Он закрыл глаза. Гостиница Найтаки — один из редких в городе каменных домов — слева. Наш обоз с грохотом вкатил на мощеный двор. Найтаки встречал нас и узнал. По мере приближения к нам маска скорби на его лице менялась выражением удовольствия — это страх перед возможными неприятностями побеждала страсть наживы. — Какая радость, господа, вот неожиданное удовольствие, — говорил он и пожимал нам руки с фамильярностью общего друга и наперсника тайн. — Ах вы несносные шутники, — говорил Магденко Алексею, наблюдавшему выгрузку нашего имущества, — встреча с вами — для меня праздник. Я живу в глуши, но стараюсь быть на высоте современной мысли, я читаю, думаю. И вдруг беседа с известным сочинителем, притом смелым, опальным, и ничего, кроме насмешки. Хоть бы вещицу какую из последних узнать. К нему же не подступишься! — Я могу вам прочесть, — сказал Монго и, не ожидая ответа, уставил на него выпуклые барские глаза и сказал: — "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. Быть может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей". |
||
Я прыгнул и упал спиной на постель. Белье белое, как снег, халат у меня темно-зеленый, пояс с золотыми желудями на концах. Я закрыл глаза. Оркестр на бульваре играл "Вальс Авроры". Было так хорошо, как не было никогда. Я встал и пошел к Монго. Монго на дворе ждал у деревянного корыта. Казак взял щипцами раскаленное железное ядро, опустил в воду. Вода вскипела вокруг ядра. Казак ушел. Монго накапал в воду французские эссенции из флаконов и полез в корыто. Я люблю смотреть на его туалет — это священнодействие. Он так внимателен, так серьезно трогает, оглядывает, очищает себя, как драгоценность. Он сушит усы, расправляет их и завертывает шелковою бумагою. Два лакея внесли в его комнату подносы с зеленью, мясом и вином. Отсюда тоже слышны были с бульвара голоса дочек степных помещиков и "Вальс Авроры". На стекле звенела муха. С горы ветер донес еле слышный звук, тоскливый голос эоловой арфы. — Монго, у тебя бывает так, что кажется, будто то, что случается, уже случалось однажды, словно ты второй раз проживаешь одну и ту же постылую и совсем никому не нужную жизнь? — У всех такое бывает. Это, наверное, болезненное явление, — отвечал Монго. — А ненужная жизнь — абсурд. Жизнь нам дает господь. Значит, она нужна. — От судьбы не убежишь, да, Монго? — От судьбы — нет, а от неприятностей убежать можно. Если только самому их не искать. Ты приехал рассеяться. Так не мучай себя. И меня оставь в покое. Умственная работа в такую жару — неприлична. Моветон. Его Французский был не очень хорош. — Монго, ты прав! — вскричал я. — Ты всегда прав, отчего ты меня не удерживаешь, ты же друг мне. Руководи мною, Монго! — Изволь. Вот — ты просил вина, а сам не пьешь. — Господи, как ты всегда прав! Я налил полный стакан и выпил его. — Какое прелестное вино! Монго, ты замечаешь, с каждым годом вино здесь делается все вкуснее, а женщины прекраснее! Я выпил еще стакан, и тут открылась дверь, и явился Мартынов, веселый Мартышка.' Но он был совсем не весел. Бакенбарды и большие усы, спускавшиеся по углам рта, придавали его физиономии мрачный и внушительный вид. Костюм его был самый фантастический — белая черкеска с серебряными, очень большими и, наверное, дорогими газырями, невероятно узкая, затянутая талия и у пояса громадный кинжал. Мы обнялись. Вернее, он пошел на нас с распростертыми объятиями, и уклониться было никак невозможно. — В городе уже знают, что вы здесь, и трепещут, — сказал Мартынов с грустным и одновременно презрительным выражением. — Слышу разговор на бульваре. Один объявляет: "Киргыз приехал". Второй: "Да кто ж это?" — "Вы не знаете? Это наш Мишель Лермонтов — киргыз". — "А кто это — Лермонтов?" — "Тот, что "Смерть поэта" написал". — "Вы тогда достали список?". — Монго, даже у тебя такой черкески нет, — сказал я и погладил Мартышкины газыри. — Мартыш, ты изменился, стал печален и божественно красив. — Не зови меня больше так, Мишель, — попросил нахмурившийся Мартышка, — мне это теперь нейдет. — Как тебя не звать? — Мартышем. Не надо. Время теперь совсем другое. — Я тебя буду иначе звать. Я придумаю. Что у тебя на животе висит? — Кинжал, Миша. Вещь для мужчины не лишняя. И поднял над бровями горькую складку. Он был совсем болван. Дружественный болван. Я не злюсь на заурядность. Она мне обидна. Я издеваюсь, чтобы разбудить. Вдруг выскочит человеческое? Вдруг? — Миша, прекрати, — предупредил Монго. Да куда уж! — Господи, Мартынов, ты мне скажи, что в городе: есть дамы? — О-о! — простонал Мартышка и поднял очи горе. — Рассказывай! — Во-первых, "грации". — Кто?! — "Грации". — повторил Мартышка, совершенно лишенный чувства смешного. — Девицы Верзилины. Три очаровательные девушки. Могу сегодня же вас представить, мы у них комнаты снимаем с Глебовым. — Почему "грации"?! — Мы так здесь их зовем. Так и говорим: "храм граций". Это дом Верзилиных. "Где был?" — "У граций". "С кем танцуешь мазурку?" — "С младшей грацией". Ну и другие есть. — Слушай, Мартыш! Извини — Мартынов? А что, можно кого-нибудь из них... — Можно. Мартынов пил, положив на колени свой чудовищный кинжал. — Так уж легко? — Женщины — pas problemes, — сказал презрительно Мартышка. — Ты знаешь секрет успеха? — Какой еще секрета? Им всем надо одно и то же... — А что именно? — Большой кинжал, — усмехнулся Мартышка. — А у тебя — большой? Я даже не ожидал, что в Пятигорске меня ждет такая замечательная фигура — Мартышка! — Не жалуюсь, — сказал Мартышка. — Ты просто молодец! И будет тебе такое прозвище! Большой... — Я прошу тебя, — остановил меня Мартышка. Ему было приятно. — А отчего ты не генерал? С таким огромным кинжалом? Извини. И не генерал? Просто майор. — Не сошелся с начальством. У меня, видишь ли, свои взгляды. — На общее положение дел в России? — Вот именно, — веско сказал Мартыш. — У тебя свое, особое мнение? — Да, как у всякого мыслящего человека. — Да ты революционер! Карбонарий! — С этим не надо шутить, — мягко сказал Мартышка. — Лучше — карбонарий. Montagnard. Горец. Это тебе больше подходит. К костюму.Montagnard с огромным... — Мишель! — ...кинжалом, — закончил я. — По-французски даже рифма получается. Montagnard au grand poignard... Горец с огромным... Только теперь он начал обижаться. — ...кинжалом. — И этот человек написал "А вы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов"! — обратился Мартынов к Монго. Монго молча развел руками. — Мартынов, — сказал я, — если это тебя мучит, я никогда никому не скажу, что у тебя большой кинжал. — Уже надоело, —сказал Мартышка. — Но, согласись, складно получилось: montagnard au grand poignard, ты сам сочинитель, ну, разве не хорошо? Услыхав, что я помню о его стихах, он смягчился. В мягкости его были панибратство и наглость. — Во всяком случае, изволь не называть меня так при дамах, — попросил он. — А что в этом дурного. Горы, оружие. — Я же буду знать, какой ты вкладываешь смысл. — Я не буду вкладывать, я так скажу. Без смысла. — Не во мне дело, пусть я глуп, — сказал Мартышка, — но к людям, Миша, надо быть добрей! И уж если желаешь быть судьей, так суди сильных мира сего и оставь в покое простых смертных. Ты сам не без греха. Ты русский поэт — и по-русски выражаешься с ошибками! — Прав Монго. Не будем в жару об умном, — прервал я его. — Правда глаза колет! Нет, ты послушай, как это у тебя:
Это куда ни шло, а дальше:
Так по-русски не говорят. Надо "из пламени", а не "пламя". И почему "не встретит ответа"?.. На бульваре зажгли огни. Их мерцание в темной массе деревьев, голоса невидимых в сумерках людей, женский смех, теплый неподвижный воздух, аромат призрачно белеющих цветов — это было как театральная декорация, и так хотелось быть там и остаться навсегда, в созданной игрой света несуществующей прекрасной жизни. — Нельзя судить людей, не любя их, — говорил Мартышка, — твоя недоброта от скуки и пресыщения. Не такой уж ты аристократ. Откуда твое пресыщение? Остановись, Миша, или тебя ждет погибель.
|
||
Снова ветер подул с горы, заволновались купы деревьев на бульваре и задвигались в траве отблески огней. |
||
Женщина, лица которой мы не можем разглядеть в сумерках, представляется нам прекрасной. Таковы свойства нашего воображения. Двадцать лет назад в ночном саду грубые рубашки дворовых девок казались мне одеяниями фей Я шел за ними в темную аллею. В Тарханах всегда ветер Яблони шелестели, ветлы трепетали на валу, этот шепот дразнил меня, я был влюблен во всех разом Мне было четырнадцать лет. Луна осветила сад Волшебные девы исчезли Я стоял один. Я мал ростом, широк в плечах и нехорош собой. Я уверен, что не могу быть любим. Я хочу быть, как все. Одиночество моей души ужасно. Мир, в котором я живу, мне чужой. Я подозреваю, что в моем рождении есть тайна, и, если б я был рожден в другом месте и в другое время, я мог бы быть счастлив. Мир чужой, но Тарханы — тоже мой мир — родные мне. Старые яблони чахлые ветлы, ландыши, светящиеся в траве, сливы в ночной росе говорят на моем языке. Нигде на свете нет такой свежей зелени на такой черной земле. Только здесь так неподвижны труды, так громадны дубы и вязы, так черны дороги, уходящие в неведомые земли за холмы, одетые лесом. В Тарханах всегда ветер. Даже в раскаленный полдень ветлы шелестели на валу за усадьбой и яблони качали тяжелыми ветвями, отсчитывая наше неторопливое время. Горячий воздух дрожал над просторным пыльный двором перед нашим деревянным домом. Сон и лень овладевали множеством людей и животных, населявших усадьбу. Все разделено — кресла с бронзой, вынесенные для гостей, и сосновые лавки, породистые борзые и дворняги с раздутыми животами, гуси и павлины, аглицкие сюртуки и паневы, телеги и коляски, все раздельно — и все вместе под небом тарханского двора Ветви под тяжестью плодов клонились к земле. Рубиновые, золотые, лиловые плоды, яблоки, сливы, груши, горячие, покрытые пушком свежей спелости. Ветер — и яблоки со стуком ложились в траву. Марфушка шла далеко впереди с корзиной в тонкой руке, она шла в "дальний" сад, и я шел за ней, не таясь, и мне казалось, что все смотрят на меня и думают, какой я неуклюжий и некрасивый. Я слышал только громкий, сверлящий, все заглушающий звук кузнечиков в сухой траве. Марфушка была дочка буфетчика. Я боялся заговорить с ней. Желание и стыд боролись во мне, потому что любовь моя была чиста. Мы были одни в саду среди старых яблонь. Я шел совсем близко к ней. Она знала, но не оглядывалась. Я казался себе нелепым уродом в своем сюртучке, панталонах и сапогах рядом с ней, неслышно скользившей в одной домотканой рубахе, пронизанной солнцем. Теперь она точно — слыхала мои шаги, но не оборачивалась нарочно. "Марфуша!" — окликнул я. Она сделала вид, что не слышит, только качнула черной головкой. Безумная надежда проснулась во мне, и хоть я знал наверное, что счастья мне не суждено, но прыгнул на Маррушу сзади и неловко обхватил руками. Она остановилась покорно и только вздохнула. "Марфуша! Марфуша!" — повторил я, одною рукою нежно, но упорно поворачивая к себе ее лицо, потому что мне в моем безумстве одновременно важно было знать, не смеется ли она надо мной. Она чуть улыбалась, но, кажется, это была не насмешка! Ресницы ее были опущены. Марфуша! — опять повторил я. Полотно рубахи скользнуло с ее плеча под моей рукой. Смуглое плечо и лицо были покрыты пушком, как сливы в нашем саду. Все мое внимание было приковано к открывшемуся плечу, я прижался к нему губами. Марфушка выскользнула и опустилась в траву, так же глядя на меня с полуулыбкой, сбивавшей меня с толку. Пачкая панталоны в черной земле, я стоял на коленях и снова целовал горячее плечо, а Марфушка все молчала и смотрела в светлое небо. "Марфуша, ты придешь ко мне? Ты придешь?" — спрашивал я, задыхаясь, назначая ей свидание, когда все должно было свершиться, не зная, что вот сейчас и есть то самое свидание, когда все должно свершиться. Она не понимала, о чем я спрашиваю, и сама уже целовала меня, смущенно и радостно. Я был — барин. "Когда ты придешь ко мне?" "Куда?" — шепнула она. "Ко мне, ночью!". Мне, дураку, важно было, что ночью. "А зачем?" — спросила с прелестной простотой Марфушка. И, действительно, зачем? Мы были одни в громадном саду, и это была моя истинная первая любовь, когда я любил не мечту мою, а живую теплую Марфушку, пахнущую яблоками, как само лето в Тарханах. "Я люблю тебя! — объяснял я. — Ты приди ко мне!" — "Я приду". Слова мне мешали, не надо было их говорить, а я говорил. |
||
Ночью я ждал ее в своей комнате. Я разделся и присел на кровать. Время будто остановилось. Я подошел к окну и прижался горячим лбом к стеклу. В черноте ночи мне виден был только месяц и неподвижная бахрома висевших вокруг него облаков. Внезапно мне показалось, что убранство комнаты может обидеть Марфушку напоминанием о разнице нашего положения. Я убрал со стола толстые лексиконы и упрятал их под кровать. Глобус все выкатывался из-за ширмы, пока я не поместил его в ночной горшок. Мною овладело необычайное волнение. Каждый звук заставлял меня вздрагивать, но это бью лишь треск старой мебели и хрипение часов. Пол мoeй комнаты затянут был сукном. Я с раннего детства любил чертить на нем мелом, и сукно хранило полустёртые строки и фигуры. Теперь я сидел на полу, в лунном свете вновь и вновь рисовал профиль моей возлюбленной Марфушки и целовал рисунок. Чувство мое достигло предела. Когда на лестнице раздались еле слышные шаги — она поднималась на цыпочках, — я уже боялся ее появления. Руки мои стали холодны как лед, и я торопливо грел их дыханием. Она явилась в чепце, в накинутом шерстяном платке. — Я люблю тебя! — прошептал я и поцеловал, боясь коснуться ее своими отвратительно холодными руками. — Сними же платок... Она покорно сбросила его, стащила чепец, волосы рассыпались по круглым плечам. Она глядела на меня так просто и доверчиво, что страх, казалось, прошел. Я как безумный стал обнимать ее и шептать, как она дорога мне. Марфушка цеплялась за шаткую спинку кровати. — Погодите же, погодите, — сказала она рассудительно, легко отстранила меня, мигом разделась и легла. Мягкость пуховика ошеломила ее. — Как у вас хорошо! — прошептала Марфушка. Она была так прекрасна, что мне опять казалось кощунством дотронуться до нее. — Идите ко мне! — позвала Марфушка. — Да, да, я сейчас, — говорил я, склоняясь к ней. Она потянула меня к себе обеими руками, говорила какие-то отрывистые слова, и звуки были яснее слов. Теперь я уже верил, что она любит меня, но эта уверенность, вместо того, чтобы придать силы, повергла меня в полную растерянность. Я слишком ждал ее. — Я люблю тебя, люблю! — повторял я, яростно лаская ее, и от этого теряясь еще больше. Она поняла. — Барин, лягте тихонько, погодите, — шептала она и гладила мою несчастную голову. — Гляньте, какой хороший месяц. — Ты ко мне завтра придешь?! — Приду. — Ты ко мне всегда приходи... Вдруг с треском отворилась дверь, бледный луч ночника озарил живой скелет мужчины. Растрепанный, босиком, в одной рубашке, на пороге моей комнаты стоял мосье Капэ! Земной шар выкатился из горшка к его ногам. — Eh, bien, monieur, que vois je? — строго осведомился француз. — Ah, c'est vous?.. — Pourquoi ce bruit? Que faites vous donc? — Je fout... Я вскочил с кровати и одним тузом вышвырнул француза вон. Марфушка плакала и торопливо одевалась. Я удерживал ее, но она убежала, я кинулся было вслед за ней, но явился снова Капэ, одетый в халат, и, решительный, втолкнул меня в комнату и запер снаружи дверь на ключ Светало. Я бил в дверь кулаками. Кожа на пальцах моих была уже содрана от неистовых ударов. — Миша, как ты мог! — говорила за дверью бабушка. — Палачи! — кричал я. — Я убегу! Я люблю ее! Я женюсь на ней! — Господь с тобой, Миша, что ты такое говоришь? — Вот плоды вашего потворства! — слышался голос француза. — Идите успокойтесь, Елизавета Алексеевна, я сам справлюсь с нашим бунтовщиком. — Мишенька, ты должен просить прощения у мосье Капэ! Да успокойся же ради Христа, ты не спал всю ночь! — Елизавета Алексеевна, любовь — не жизнь. Уснет. Ефим, помоги барыне спуститься. Бабушка удалилась. — Отоприте! — кричал я. — Если вы дадите слово чести не покидать дом, — предупредил мосье Капэ. Ключ заскрипел, и француз вошел с видом жертвы. — Вы шпион! — выкрикнул я. — Бейте же меня, отвечал он с презрением, — я подставлю вам другую щеку, вернее, другую половину зада, ибо били вы меня, слава богу, не в лицо. — Я не хочу говорить с вами! — Да, ваша сила не в словах, Мишель. Вы влюблены. — Еще одно слово... — Я не намерен обижать ни вас, ни бедную девушку, — остановил меня француз, — однако, если влюблены, какова ваша цель, кроме самой обыкновенной? — Вам не понять! — Отчего же? Вы намерены образовать ее, возвысить ее до себя. Не так ли? — Я это сделаю! — И будете жить с ней как с женой? — Да! — Повторяю; как с женой. Пока она вам не надоест. Вот русский философ! Страсть рождает благие порывы и плодит несчастных. При вашем рождении была основана новая деревня Михайловка. Благороднейший порыв бесконечно мною уважаемой бабушки. И что это за деревня сегодня? Заглазное имение. Место ссылки непокорных и испорченных рабов! А ведь первое движение было — любовь! — Ах, если б не вы! — воскликнул я. — Если б не я, девушка продолжала бы бывать у вас, привыкла бы к роскоши и неге, и тем ужасней было бы ее позднее пробуждение к суровостям жизни супруги вечно пьяного мужика. — Я буду молить бабушку! — Поздно. Судьба вашей возлюбленной решена. Впрочем, у вас еще есть возможности, мой юный философ, в доме много служанок. Он взял со стола листок с моими стихами. — Не трогайте! — сказал я. — Поэту нужен читатель, — отвечал он спокойно и прочел:
Какая зрелость мысли — и какое ребячество в поступках! Он улыбнулся, сцепив на костлявом колене прозрачные пальцы. — Что будет с Марфушей? — спросил я. — Ее выдают замуж — в деревню, которая носит ваше имя. Можете взглянуть, но помните — вы дали слово оставаться в доме! Из окна, выходившего во двор, я видел телегу. Мужик с косматой бородой подал узелок уже сидевшей на телеге Марфушке. Она подняла лицо к моим окнам, но под платком я не узнал милые черты. — Вы сейчас думаете, кто виноват, — сказал француз. — А никто не виноват... Мужик ударил лошадь кнутом. Колеса застучали. Я зарыдал и убежал к себе. Толстая девка принесла на подносе чай. — Барин, — сказала она жалостно, — не убивайтесь. Хочете, я к вам нынче приду? Я ударил по подносу ногой. Чашка разбилась на потолке. |
||
Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрипом нагайской арбы и заунывным татарским припевом. Музыка на бульваре смолкла. В 11 часов город уже спал. Мартынов пил, драпируясь в белую бурку, как римлянин в свою тогу. Он отяжелел от вина, и губы его кривились в горькой усмешке. Вид его был значительный. — Как же мне называть тебя? — спросил я. — У меня есть христианское имя Николай. Бурка его была настоящая, андийская, с черной каймой внизу. Нужно большое пронырство, чтоб такую достать. — Мы, кавказцы, народ простой, — сказал Мартышка. — Раз мы с тобой кунаки — ничего не пожалею. В обиду не дам. Я ведь тут в Пятигорске первый... — Неужто? — Я приехал первый, — поправился Мартышка. — Здесь меня уважают как изгнанника... Знаешь, Мишель, ты ведь тоже изгнанник. — Спасибо. Ты мне делаешь честь. Я просто заехал по дороге в армию. Я служу и выполняю приказы. — Нет, ты изгнанник! А изгнанников здесь любят. Хотя, конечно, причина твоего изгнания не та... Тебя наказали за дуэль? — За дуэль. — Ну кто теперь дерется на дуэлях? — улыбнулся он. — Да. Запрещено и опасно. — Не в этом дело. Драться глупо, — объяснил Мартышка, — смешно и стыдно из—за бабы подставить себя под пулю. Я бы не стал. К тому же я ужасно щекотлив. Когда противник меня колет, я хохочу и держусь за живот. А стреляю я из рук вон плохо. — Пушкин дрался, — сказал я. — Дуэль Пушкина есть акт самоубийства, — заявил Мартышка. — Пушкин понимал, что муза покидает его, и нарочно подвергал жизнь опасности. Байрон — то же самое — искал смерти. Смерть украшает жизнеописание поэта. Но Дантес — подлец. Тут я согласен. Я был кавалергард, а кавалергарды все за Дантеса, но я порицаю. Русский бы Пушкина не убил! Это только француз мог. Да? — Тебе пора спать, — сказал я. Мартышка помрачнел и вздохнул: — Я давно забыл, что такое сон. — Вы у нас ночевать останетесь, — предложил долго молчавший Монго. — Запросто. — Как? Лишней кровати нет, — сказал польщенный Мартышка. — По-кавказски, на бурке, — сказал Монго с английским своим спокойствием. — Нет, я пойду домой, — решил Мартышка. — Глебов волноваться будет. Я к вам утром приду. В половине шестого. — Pardon? — поднял брови Монго. — Вместе пойдем воду пить. — Нет, увольте, — сказал Монго. — Я встаю поздно. И вообще я эту мерзость пить не намерен. — Мишель, я тогда зайду к тебе. — Не надо. — Ну что ж. — Он нахлобучил папаху на глаза. — Видишь ли, Мартынов, я задумал роман из русской истории, а у меня такое правило: я создаю в жизни анекдоты своих будущих сочинений, а потом пишу. — Из истории? — Люди были всегда одинаковы. И без таких как ты, жизнь всегда была скучна. — Я, по-твоему, дурак. — Ты mortagnard, но вся суть в подробностях. Идея же такова: ложь бывает доброй, а правда злой. Доброе победит злое, но ложь убьет правду, ты понимаешь? Он ничего не понял. — Героем твоим я быть не намерен, — усмехнулся Мартышка. — Я люблю тебя и вижу в тебе вещи, другим безразличные. Люди вообще безразличны друг к другу... — Вовсе нет! — Ты хороший человек, — продолжал Мартышка. — Но свет тебя окончательно испортил. Как ты мнишь себя самого? — Я — мечтающий об отставке поручик Тенгинского пехотного полка. — Ты видишь себя вершителем судеб. Пока я рядом с тобой, я намерен влиять на твою холодность, — сказал Мартышка, — хотя бы для того, чтобы отвлечь от затей, всегда связанных с оскорблением личности. — Вот — уже есть завязка романа, — объявил я. — Тебе придется меня терпеть. — покорно сказал Мартышка. — Сейчас начало сезона. Из знакомых — только я и Глебов. Он вышел. — Возможно, он умен и добр, — сказал Монго, — но у него вовсе нет вкуса. Пьяный лакей пришел из ресторана убрать остатки нашего ужина. Монго курил свой любимый турецкий табак из пятифунтового черешневого чубука с константинопольским янтарем. На коленях его лежал том любимого Бальзака. Он был денди с головы до пят. — Здесь лучше, чем в Темир-Хан-Шуре, — сказал я. — Везде днем мухи, а ночью клопы, — отвечал Монго. |
||
Мы с Мартыновым поднимались к Елизаветинскому источнику. Все было, как в прежние годы. Те же семейства степных помещиков, те же старомодные сюртуки мужей и изысканные наряда жен и дочерей. Казалось, вся Россия собралась сюда в надежде исцеления. И, как всегда, внутреннее напряжение, какое-то неудобство сковывало лица, словно больные стеснялись того, что они больны, а здоровые — своего здоровья. Во всех была неуверенность. Дамы опускали стаканы в колодец на белом шнурочке. Штатские принимали академические позы. Казак с нагайкой через плечо бросал стакан и пил теплую вонючую воду, чтоб потом громко объявить: "Черт возьми, какая гадость!". На крутой скале в павильоне Эоловой арфы любители видов наводили телескоп на Эльбрус. — Лермонтов, ты слушаешь и наблюдаешь не за тем, что я говорю тебе, а за мною, — болтал Мартынов, — и я всегда остаюсь для тебя чужим, не имеющим права ничего изменить в твоем существовании! Лермонтов, ответь мне, я прав? — Прав, — сказал я. Он громко говорил "Лермонтов", наверное, для того, чтобы окружающие знали, как он коротко со мною знаком. В этот момент я увидел у колодца вчерашнюю тетушку и кузину. Я сунул в руку Мартышке свой стакан и бросился к Катеньке. Она заметила меня и смутилась. Мартынов громко потребовал; — Лермонтов, представь меня! — Мой друг, товарищ, господин де Пуаньяр, — сказал я. — Мартынов, — поправил Мартышка. Катеньке он, конечно, нравился. Тетушкина фамилия — Обыденная. — Катенька, обратите внимание, какой у мсье Мартынова большой кинжал, — сказал я. — Замечательно хороший кинжал! — сказала серьезно добрая Катенька. — Nicolas, — попросил я Мартышку самым любезным образом, — оставь меня ненадолго с кузиной. У нас родственный разговор. Он отошел к Обыденной и что—то говорил ей. — Друг мой, тебе не жарко в бурке? — спрашивала она. Катенька смотрела на меня исподлобья. — О чем вы задумались, кузина? — спросил я. Она пожала плечами. — Говорят, я плох с женщинами, — усмехнулся я. — Может быть, оттого, что я слишком много жду от вас вначале. Открытый взгляд, простые слова совершенно меня покоряют. Я уже верю, что вы разделяете мои мысли, чувства. Я стремлюсь сразу определить наши отношения и скоро начинаю врать, оттого, что действительность не дает полноты моей правда. Но ложь моя состоит из кусков правды! Я только располагаю их так, чтобы вышел роман... Катенька ничего не поняла. — Здесь у колодца ваш Печорин встретил Мери, — сказала она. — Тетушка сказала, что вы и есть Печорин, погубитель девиц. — И вы меня боитесь? — Что вы! Я вам рада. Здесь так скучно. — И мне встреча с вами приятна, — пустился я врать. — Как все, что привязывает к жизни в эти смутные дни. — А что у вас стряслось, кузен? — спросила она. — За несколько дней до отъезда из Петербурга я посетил у Пяти углов Александра Македонского... — Кого?! — Так называют Александру Филипповну. Это ворожея и гадалка, очень известная в столице особа, замечательная тем, что она предсказала Пушкину смерть от "белого человека". — Дантес — кавалергард, белый мундир! — воскликнула Катенька. Она уже слушала с полным участием и вниманием. — Да. Ее предсказание сбылось. Пушкина не стало... Я спросил ее, буду ли выпущен в отставку и останусь ли в Петербурге. В ответ я услышал, что ожидает меня другая отставка, "после коей уж ни о чем просить не станешь". — Так и сказала? — прошептала Катенька. — Слово в слово. — Но ведь это значит... — Да. И вот пришел приказ ехать. Первая часть предсказания исполнилась. Теперь жду исполнения второй части. Смерти. Впрочем, смерть меня не пугает. Государь меня не любит, великий князь ненавидит, судьба меня гонит. Жизнь мне, откровенно говоря, ужасно надоела. Тетушка возвращалась с Мартышкой. В глазах у Катеньки блестели слезы. Я добился своего. Для первого свидания успех огромный. — Как можно думать о смерти? Жить так весело! — воскликнула Катенька, Как все хорошо пошло после монетки! Я умирать совсем не собирался, особенно в Пятигорске. — Только пусть мое признание будет нашей тайной, — сказал я Катеньке. — Вы мне удивительно милы — вот я решил поделиться. Я словно в рассеянности притронулся к золотому обручу в ее волосах. — Вы никому не скажете, обещаете? — сказал я — Да, — кивнула бедная Катенька. — Вы очень похожи на девушку, которую я когда-то любил, — сказал я. — На Вареньку Лопухину? Тетка говорила... — Вы доставите мне огромную радость, если иногда позволите говорить с вами о ней. — Разве мы похожи? — спросила Катенька. — Она беленькая, а я черная. — В вас есть внутреннее сходство, — сказал я и взял ее за руку. Порыв ветра закрутил пыльные смерчи на тропинках Машука.
Периоды нашей жизни отличаются так, как отличаются наши непостоянные представления о счастье. В юности я был одержим желанием быть "как все". На плоском берегу Финского залива, где одинаковость рождала насилие, я старался быть впереди всех в счастливой заурядности. Бледное ночное небо и скучные дворцы Петербурга равнодушно смотрели в окна Юнкерского училища. В 1834 году я командовал "Нумидийским эскадроном". Ночью в дортуаре легкой кавалерии мои великовозрастные товарищи тайком пробирались в мою камеру. Все садились верхом друг на друга, образуя конницу, совершенно мне подчиненную. Всадник и лошадь были укрыты простыней. Каждый всадник держал в руке стакан воды. — Нумидийский эскадрон! С правой ноги в галоп, марш! — командовал я. Эскадрон неслышно скользил по коридорам школы. Новички, обреченные жертвы, спали. Эскадрон выстраивался в каре у постели несчастного. Я трубил атаку и срывал одеяло. Каждый выливал на спящего свой стакан воды. Вымоченный с ног до головы, не имеющий белья для перемены, он корчился в ледяных простынях и не смел даже кричать. Таков был порядок. Я командовал, эскадрон выстраивался и прежним порядком скакал назад. Пушка в крепости била в полночь. Наша торжественная жестокость так гармонировала со спящим городом! Аристократические воспитанники скакали в рядах "Нумидийского эскадрона" в глубокой тишине. Лошади — самые рослые и красивые — кавалергарды. Всадники — уланы и драгуны. Будущие гвардейцы кавалерийских полков его императорского величества. Придет время — и каждый новичок станет лошадью или всадником. Жертва рыдала в ожидании своего часа. Я смеялся. У меня неприятный смех — будто водят рукою по стеклу. |
||
Мы встретились с Монгой у госпиталя. |
||
Госпиталь был переполнен. У двери стояли в ожидании приема больные, жившие в городе на частных квартирах. — Лермонтов, проходи вперед! — громко велел Мартышка. — Глебов с утра в очереди, он предупредил, что вы будете. Лекари ходили взад и вперед с бумагами, солдаты госпитальной комнаты — с лоханями, полными окровавленных повязок. В коридоре на железных кроватях лежали больные, которым не хватало места. Окна были закрыты, чтобы спастись от мух, но мух было множество, поэтому стоявшие в ожидании курили, отпугивая мух трубочным дымом. За дверью стонал раненый, ему меняли повязки. Нас легко пускали вперед — зря суетился Мартышка. В армии не торопятся, тем более в госпитале, в очереди на перевязку. — Глебов, вот и мы! — объявил Мартышка. Глебов играл в шахматы с раненым, сидя на его кровати в том месте, где у раненого должны были быть ноги, Он встал, смущенно улыбаясь. Рука его висела, подвязанная черным платком. — Здравствуй, Баронесса, — сказал я. Мы поцеловались. Безногий, ловко подтянувшись рукой на спинке кровати, поставил шахматы на подоконник. — Подумать только, — вздохнул Мартышка, — Миша, вы были с Глебовым в одном сражении. Он ранен, а ты невредим. Господь сберег тебя, а ты — на дуэль! Разве не глупо? — Ты давно в Пятигорске? — спросил я Глебова. Ему было двадцать два, но выглядел он моложе. — Я уже год лечусь, — сказал он тихо. — Одиннадцатого июля будет год. Ты помнишь одиннадцатое июля? — Помню. Безногий все время был в действии: убил муху специально заготовленной хлопушкой, поправил тряпочку, закрывавшую хлеб, взял с подоконника журнал, вздел очки, улыбнулся мне. — Он тоже — там, одиннадцатого июля на Валерике, — сказал Глебов про безногого. — Валерик — по-татарски "речка смерти-с", — сказал безногий и кивнул мне приветливо. — А ты здоров? — спросил меня Глебов. — Здоров. — И слава богу! — воскликнул безногий. — Лермонтов совсем не здоров, — вмешался Мартынов. — Он в пути захворал сильнейшей лихорадкой и теперь не в состоянии вернуться в полк. Он нуждается в лечении. — Раз нуждается — здоров, — сказал офицер, раненный в голову, и выпустил клубы трубочного дыма. — Вот он, — показал на безногого, — уже не нуждается. — Сколько бессмысленных страданий, — тихо сказал Мартынов. — Страдания посылает нам господь за грехи, — сказал безногий. Он не стал читать журнал, а аккуратно сложил его, видимо, решив принять участие в общем разговоре. — В нашем деле, — сказал он, — не лечение требуется, а бумага. Вся сила в бумаге. А нас — вон сколько. Ординатору некогда писать, оттого он нам лекарства дает и мучает перевязками. А была бы бумага — пожалуйста вам пенсион и тихую жизнь вдали от вершин Кавказа. — Вы, если явились за пенсионом, — сказал мне раненный в голову, так надо было ногу чеченцам из-за камушка высунуть. — Мне не пенсион, — сказал я, — Так — пожить. — Так пожить — даст. Тут весь город так живет. Только бумагу надо заранее сочинить, — быстро и ласково говорил безногий, — потому как ординатору некогда думать. Мы по форме сочиним-с, мы тут умеем по форме. Большой опыт есть-с. — А он возьмет и не подпишет твою бумагу, — сказал офицер. — Какой ему резон всякую дрянь подписывать? — Если дать, подпишет. — Если дать — точно подпишет, — согласился раненый в голову. — А у меня и бумага есть и перо, — сказал с готовностью безногий и в старой картонке, обвязанной конфетной ленточкой, нашел и то и другое. Чернильницу, медную, старинную, он прятал под подушкой. Видно было, что он быстро привыкал к новому состоянию и в аккуратном размещении бедного своего имущества обретал смысл существования. Все было под рукой и шло в дело. Под подоконником висел образок и лампадка. Там же была подвязана дощечка, на ней кастрюлька, картуз табаку и еще всякие мелочи, большей частию самодельные, создававшие ему мирок спокойствия и уверенности. Так и жил он — в коридоре, в очереди на перевязку. — У меня все наготове, — подмигнул он мне, поймав мой взгляд, — главное — порядок. Порядок и бумага-с. В любом страдании готов приносить пользу царю и отечеству-с. Как изволите называться? Я молчал. — Вы глухой, господин поручик? — спросил безногий. — Тогда проще-с. — Лермонтов, Михаил Юрьевич, — сказал Мартынов. — Отлично-с! — сказал безногий и, пристроив лист на журнале, стал писать, повторяя вслух. — "Свидетельство. Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьевич сын Лермонтов одержим..." Чем одержим? — Просто одержим, — сказал Монго. — Просто — да не по форме. Мы так напишем: ...одержим золотухою и цинготным худосочием... — Тьфу, гадость какая! — сплюнул офицер, раненный в голову. — Бумага — чем гаже, тем похожей, — кивнул с удовлетворением безногий. — "...худосочием, сопровождаемым припухлостью и болью десен, а также изъязвлением языка...". — ... и прочих членов, — сказал я. — Нельзя, чтоб усматривалась насмешка, — возразил безногий и с удовольствием написал: — "...изъязвлением языка и ломотою ног, от каких болезней господин Лермонтов приступил к лечению минеральными водами...". За дверью лекаря плакал раненый. — "Остановленное употребление вод, и следование в путь..." — писал безногий. — ...навлечет неминуемую смерть! — подсказал я. — Не по форме. "...может навлечь самые пагубные последствия для его здоровья". Безногий гений достал из своей коробочки песочницу и высушил бумагу. — Миша, ты с такой бумагой сто лет в Пятигорске проживешь. — сказал Глебов. — Алексей Аркадьев сын Столыпин одержим... — начал Монго, подсаживаясь на кровать безногого. И они принялись сочинять. |
||
В комендантском управлении были те же жара и мухи. Несколько чиновников боролись со сном, развлекая себя очинкой перьев и перекладыванием с места на место всяких бумаг. Один из них, пожилой кавказец, встал со своего места и молча обнял меня. При этом он особым образом похлопал меня по спине, выражая участие и сострадание. Потом он пожал руку Монге. — Василий Иванович Чилаев, — представил я его. — Я в прошлый раз жил у него на квартире. Алексей Аркадьевич Столыпин. Чилаев сокрушенно кивнул Монге и вновь обратился ко мне: — Как я рад видеть тебя, дорогой, а лучше б я тебя здесь не видел! — Что так, любезнейший Василий Иванович? — Mоншерами, — отвечал Чилаев со своим великолепным горским акцентом, — лучше бы ты его убил, прости меня господи, хоть не зря бы страдал. Он перекрестился. |
||
— Кого убил бы? — спросил я — Баранта этого, французского посланника. — Он не посланник, он сын посланника. — Слушай, что делается? — взмахнул Чилаев обеими руками. — Человек дерется на дуэли с иностранцем, защищает честь русского мундира, а его за это — в ссылку?! Где справедливость, спрашиваю?! Некоторые чиновники сделали вид, что не слышат, другие, наоборот, демонстративно отодвинули бумаги и повернулись к нам, всем видом показывая, что разделяют тревогу Чилаева за мою судьбу. — Так не в ссылку же — в отряд, — сказал я, — я офицер. Служу. — Слушай, возьмем только нашу улицу, — продолжал возмущаться Чилаев, — кто у нас живет? Мартынов, — он загнул палец, — страдалец. — Василий Иванович! — предупредил писарь и показал на дверь коменданта. — Почему этот цветущий город превращается в трагический приют изгнания, скажи мне, дорогой! — продолжал громко Чилаев, не обращая внимания на предупреждения. Видно было, что он сильно скучал и рад случаю говорить о необычном, выходящем за пределы однообразных буден. — Господин Чилаев, — вмешался Монго, — вы нам поможете найти квартиру? — Плохо... — Я о квартирах. — И с квартирами тоже плохо. Для вас, конечно, отыщется. Я вам надворный флигель сдам. Дворец. Только для тебя, Михаил Юрьевич! — Вы построили флигель? — Почему строил? Был. — Это тот ли сарай?.. — Зачем сарай? Четыре комнаты, печка! — Мазанка с соломенной крышей? — Ты в Пятигорске, дорогой, — сказал Чилаев. — Чуланы, садовые беседки люди сдают. Калмыки кибитки сдают, слушай! А у меня надворный флигель! Теперь, когда он говорил о деле, голос его звучал тише, но искренней. — Ломберный стол есть, — сказал Чилаев. — Зеркало. Машук рядом. |
||
Плац-адъютант Сидери доложил полковнику Ильяшенкову о нашем приезде в город. Старик схватился за голову обеими руками и, вскочив с кресла, живо проговорил: — Опять он к нам пожаловал!.. Зачем это? — Приехал на воды, — ответил плац-адъютант. — Шалить и бедокурить! А мы отвечай потом! Да у нас и мест нет в госпитале, нельзя ли его спровадить обратно в Георгиевск... А?.. Я не знаю, что нам с ними делать! — Не принять нельзя. Сидери был моложе, и Ильяшенков боялся, что он лучше понимает веяния времени. — У бабки его самые высокие связи, — сказал Сидери. — Кто их там, в Петербурге разберет?.. Плац-адъютант открыл дверь кабинета и торжественно пригласил: — Поручик Лермонтов, капитан Столыпин. — Здравствуйте, — приветствовал нас нахмуренный представитель власти. — Зачем пожаловали? — Болезнь загнала, — начал я. — Позвольте! — перебил меня Ильяшенков и обратился к Монге: — Вы — старший. Отвечайте. — Вот свидетельства и рапорты, — сказал Монго. Мы подали бумаги. Комендант прочел и затосковал. — Только с уговором, господа, не шалить и не бедокурить! В противном случае... — Он посмотрел на Сидери и закончил: — Вышлю в полки. Так и знайте. — Больным не до шалостей, господин полковник, — сказал Монго. — Бедокурить не будем, — добавил я, — а повеселиться немножко позвольте, господин полковник, — иначе мы можем умереть от скуки, и вам же придется нас хоронить. — Тьфу, тьфу! — отплюнулся Ильяшенков. — Что это вы говорите! Хоронить людей я теперь не могу! Вот если б вы, который-нибудь, женились здесь, тогда бы я с удовольствием пошел к вам на свадьбу. — Жениться? Тьфу, тьфу! — воскликнул я с притворным ужасом. — Что это вы говорите, господин полковник, да я лучше умру! — Ну вот! Я так и знал, — расстроился Ильяшенков. — Вы неисправимы. Сами на себя беду накликаете. Идите и устраивайтесь. Там что бог даст, то и будет. Мы вернулись в канцелярию. Чиновники глядели на нас в ожидании скандала. — Комендант был очень учтив, — сообщил Сидери, — господам офицерам разрешено остаться в городе. — Поздравляю, — сказал Мартышка. Всем было бы интереснее, если б нас выслали вон с фельдегерем. — Можем идти осматривать флигель, — сказал Чилаев. Стол его был давно убран и бумаги спрятаны в ожидании приятной возможности покинуть присутствие. — Только надо заехать в гостиницу переодеться, — сказал Монго. — Что за приятность в жару разъезжать по городу в парадной форме? |
||
На улице было пусто. Наступил час, когда в Пятигорске заняться решительно нечем. В ожидании обеда многие обитатели города сидели у окон и разглядывали редких прохожих. Прохожие, в свою очередь, смотрели в окна. Должно быть, самые фантастические мысли рождались в это медленно текущее время. Мартынов придержал меня за локоть; когда Монго и Чилаев ушли вперед, он сообщил: — Чилаеву не верь. Он агент третьего отделения. Как раз в этот момент Чилаев хлопнул себя по лбу и воскликнул: — Ах, моншерами, совсем забыл. Он подошел ко мне. — Конь продается, замечательный. Ветер! Ураган!.. "Черкес" зовут. Есть одна подробность... Он засмущался и поглядел на Мартышку. Мартышка деликатно отошел в сторону. — Моншерами, я должен тебя предупредить, — быстро заговорил Чилаев. — Мартынов тебя познакомит с семейством Верзилиных. Тебе и так достаточно неприятностей. У тамошних стен есть уши... Мы свернули с бульвара и поднимались теперь по Дворянской улице. С обеих сторон стояли одноэтажные домики с глиняными стенами и синими рамами окон. Почти из каждого окна со стаканом кофе и булкой в руках или просто так, в полной праздности, кто-нибудь смотрел на нас. Может быть, Мартынов сказал правду, или Чилаев прав, может быть и оба они правы. Может быть, и не было ничего. Впереди виден был Машук, нависавший над городом. Мы повернули налево, на Верхний переулок. — Вот они. — шепнул Мартынов. Справа из окон углового дома смотрели женские лица с обычным дообеденным сонным выражением. |
||
— Кто? — Верзилины. Грации, — сказал Мартышка и сгорбился, играя своей буркой. Налево, на другой стороне переулка, в окне тоже маячило сонное девичье лицо. Я узнал Катю. Мартынов подошел к окну Верзилиных и что-то говорил. Я опять услышал громко сказанную свою фамилию. — Лермонтов, Столыпин, подойдите! — позвал Мартышка. Катя смотрела из своего окна. Я пошел знакомиться с грациями. — Эмилия Александровна, Надежда Петровна, — назвал их Мартышка, — поручик Лермонтов, капитан Столыпин... Старшая, Эмилия, была хороша, но уже увядшая, немолодая девушка, младшая — розовая кукла. В глубине комнаты сидела в креслах с работой в руках третья, но ее не сочли нужным представить. — Вы угадали, мсье Лермонтов, мы все здесь бесконечно провинциальны, — сказала Эмилия, поймав мой взгляд. Сразу стало ясно, как у них распределяются роли. Старшая была хозяйкой "салона", Надежда — воплощением юной шаловливости, а та, что сидела в глубине непредставленною, — символом домашнего уюта и доброты. Подошел Глебов и влюбленными глазами уставился на рыжую Надю. — Мишель, ты любитель прозвищ, — сказал Мартышка, — так знай же, как зовут в Пятигорске мадмуазель Эмилию... Катя в своем окне ела булку. — Господин поручик нас боится, — сказала Эмилия и прищурилась так, как щурятся все женщины, знающие о себе, что они остроумны. — Он ждет, что мы заставим его писать нам в альбом. — Ее зовут "Роза Кавказа"! — не унимался Мартышка. — Я вас боюсь, но причина другая, — сказал я. — А знаешь, кто дал это прозвище? — настаивал Мартышка. — Отчего вы боитесь? — спрашивала она. — Пушкин дал прозвище! — воскликнул Мартышка. — Сам Пушкин! — Я боюсь вашей брошки, — отвечал я и показал на камею, приколотую у выреза ее платья. — Пушкин, когда был в Пятигорске! — провозглашал Мартышка. — А что вас пугает в моей брошке?.. Она оттянула камею и, собрав губы в некрасивые складки, взглянула на нее сверху вниз. Камея изображала Диану со стрелами и луком. — Богиня-охотница, — сказал я. — Я боюсь воинственных женщин. — Мишель, ты слышишь, что я тебе говорю? — спрашивал уже обиженный Мартышка. — Пушкин двенадцать лет назад... — Ах, Мартынов, что вы вечно с вашим Пушкиным! — резко оборвала его Эмилия. — Это же глупо, наконец! Что за мужчины нынче? Даже комплименты чужие. Кавалеров настоящих вовсе нет. Так и приходится защищать самих себя. Отсюда — и Диана, — она прикоснулась к своей Диане. — Живем с оружием в руках. — Стрелы — оружие не защиты, а нападения, — поправил я ее. — Пусть так! Я девушка воинственная. Я люблю скачку, опасности... На поясе ее висел кинжал. Ей давно пора было замуж. — А охоту вы любите? — спросил я. — На что вы намекаете? — прищурилась она, соображая, что происходит — или я наглец, или в Петербурге новая манера беседовать с дамами. — Знаете, я обижусь, и в гости не позовем! — Извините, мадмуазель Верзилия, — сказал я покорно. Рыжая Надя громко засмеялась, прикрываясь платочком. — Мадмуазель Эмилия! Эмилия Александровна, простите меня великодушно. Это я с дороги... Я болен... — У него изъязвление языка, — сказал Монго. У нее слезы выступили на глазах. — Так я и знал, так и знал, — повторял Мартышка, — он в сущности добрый человек, он просто крайне невыдержан... — Теперь вы нас в гости не пригласите? — сказал я. — Приходите! Приходите непременно! — пропищала кукла Надя. — Видите, — сказала Эмилия, — у нас столичные господа в почете. Все стерпим. Принимаем без разбору. Приходите. — А танцевать со мною будете? — спросил я. Она прищурилась и молчала. — А вы? — спросил я безмолвное существо, сидевшее в глубине комнаты. — Я замужем, — ответило коротко существо. Я посмотрел на Надю, но поймал такой выразительный взгляд Глебова, что сразу отступился. Баронесса был влюблен. Катя в своем окне подносила к губам чашку. Ударил церковный колокол. Катя поставила чашку и перекрестилась. Ветер прошелестел в черешнях за каменным забором. — Это хоронят штабс-капитана, зарезанного черкесами, — сказал Чилаев. — Их поймали? — спросила рыжая грация. Чилаев развел руками. — За что они его? — спросила Эмилия. — Ни за что. Так. Проезжий человек. Никто его не знал. Встретили — зарезали. — Какое зверство! Да это невозможно — так просто. Должна быть причина! Нужно учинить расследование, — ужасалась Эмилия. — Коменданта это не волнует! Он больше занят доносами на ссыльных! — Эмилия! — тихонько сказала кукла Надя и прижала пальчик к губам. — Дикий край, — сказал Мартынов. — Только ли Кавказ! — добавила Эмилия. — Мы говорим о Кавказе, — сказал Чилаев, помня про соседские окна. — Мы горстка людей в царстве чудовищ. — сказал Мартынов. — Это просто чудо, что мы нашли друг друга, Мишель, это чудо! Да, ты злой. Монго — кокетка, я... думайте обо мне, что хотите! Глуп, заносчив, все, что угодно, но на преступление, на убийство из-за угла мы не способны и мы все-таки не зря живем на свете. Миша, не зря, в нас есть понимание каких—то вечных ценностей, которого нет у других, мы знаем, что есть страдание и что есть веселье, мы никогда не перейдем черты, отделяющую человека от зверя... Он так разгорячился, так громко говорил, что дамы почувствовали неудобство. — Мартынов, объясни, пожалуйста, кто это "мы"? — спросил я. — Ты прекрасно знаешь — кто! Мы — это те, кто понимает, кто находит друг друга в толпе, кто словно знает секрет жизни, и если бы все были "мы" — один бог знает, какая была бы замечательная жизнь. — Все — "мы", и у каждого по огромному кинжалу, — не удержался я. — Миша, я же тебя просил! — сказал он со страданием. — Друг мой, да вы масон. — сказал ему Монго. — Ай, смейтесь, если вам угодно. — отмахнулся он своими красивыми руками. — а думаете вы то же самое! Ударил колокол. Верхний переулок упирался в степь. Мы свернули направо и пошли вдоль Кладбищенской улицы. Эта улица имеет только одну сторону. Справа — забор из каменных, замшелых плит, слева — степь, покрытая сухим кустарником и обломками скал. Навстречу двигались люди, возвращавшиеся с похорон. Сперва нам встретился адъютант коменданта Сидери, бывший на похоронах по долгу службы. Потом священник Эрастов и его хорошенькая жена, которую он боялся оставлять дома. Их кухарка — с корзиной, — наверное, зашла на обратном пути на рынок. Потом несколько отставных солдат и старух из "капитанской" слободки. Потом похоронные дроги и собаки. Все улыбались и кивали нам. Эрастов подобрал подол рясы и пошел так, чтобы загородить собой красавицу-жену, Я знал всех с прошлого приезда. Пятигорск маленький город, все знают друг друга, все перепутано. |
||
Дом Чилаева угловой — последний в городе. Если стоять к нему спиной — не видно ни домов, ни людей. Степь, за степью Бешту, справа, совсем близко, Машук. — Здесь, в этом доме, в прошлый приезд жил Михаил Юрьевич Лермонтов, — говорил за моей спиной Чилаев Монге. — Из этих окон он любовался видами природы, этот дом он описал как дом Печорина. Помнишь, дорогой? "Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками"... А теперь пройдем в надворный флигель. Они ушли. Я остался один. Мне показалось, что я умер, а Чилаев зарабатывает деньги, показывая приезжим места, где свершалась моя трагедия. Когда я догнал их во дворе, они уже входили во "флигель". Наружность домика была самая непривлекательная. Во двор выходили три окна, все три различной меры и вида. Над окнами низко нависала тростниковая кровля. — Из прихожей мы попадаем в приемную, — говорил внутри домика Чилаев. — А через эту дверь — в зало. Я обошел мазанку кругом и влез через перила на балкон. Балкон выходил в сад, разделенный низким каменным забором. За забором в прозрачной вишневой роще гуляла женщина в белом платье, с книгой в руках. В раскрытые окна слышен был голос Чилаева: — Вот печь. Два кабинета. Женщина, не отрывая глаз от книги, приближалась к забору. Это была Эмилия. Я тихонько постучал пальцем по перилам. Она сделала вид, что не слышит. Я хлопнул в ладоши. Она подняла лицо, в растерянности повертев головой, увидела меня и изобразила удивление. Я стал делать ей знаки. Она с любопытством приглядывалась, пока не поняла, что я знаками предлагаю ей перелезть через забор и идти ко мне на балкон. Возмутилась и исчезла. — Мы нарушили ваши заветные думы? — тихо спросил стоявший в дверях Чилаев. — Ну что, Лермонтов, хорошо? — спросил Монго. — Ничего, — отвечал я небрежно, — здесь будет удобно... Дай задаток. — Прошу прощения, — застеснялся Чилаев, — я хотел бы получить всю сумму целиком, исключительно вследствие желания не доставлять вам в дальнейшем беспокойства. — Сколько? — спросил Монго. — Сто рублей серебром. Столыпин вынул бумажник и заплатил. — Прикажете расписку? — спросил Чилаев. — Обязательно! — строго ответил Монго. Чилаев ушел в комнаты. — Грации скучны так, что мухи дохнут, — сказал я. — А может быть, лучшую мы еще не видели? — Четвертая — воспитанница Кнольт, невеста плац-адъютанта Сидери, — сказал Монго, — плохи наши дела. Вернулся хозяин: — Вы просили расписку. — Мерси, — поклонился важно Монго, скатал расписку в шарик и кинул на пол. Чилаев вздохнул и удалился. — Пора в гостиницу за вещами, — сказал Монго. Я не ответил. Он ушел один. |
||
В комнатах зажигали свечи. Монго командовал слугами, вносившими наши сундуки. Я словно проснулся. Монго взял у меня из рук листок с чилаевским счетом. Я всегда пишу на обрывках и теряю. Пока он читал, я кинул перо в окно. Оно пролетело стрелкой и повисло на ветках. Вишни на дереве были еще маленькие и зеленые. Я вышел во двор. В саду светились окна верзилинского дома. Эолова арфа пела свою тоскливую песню. Монго читал мои стихи. Когда Монго что-то волнует, маска его лица делается вовсе непроницаемой. За всю жизнь мы не сказали друг другу двух слов с полной откровенностью. Он дочитал до конца и. конечно же, не сказал мне ничего. У лампы вился желтый мотылек. — Пойдем в "храм граций"? — предложил я. — Да, только переоденусь. — сказал он. За это я его и люблю. |
||
10 июля 1840 года, предав пламени деревню Гехи и истребив близлежащие засеянные поля, мы расположились возле деревни для ночлега. Казаки и мирные татары славно джигитовали в поле, вытаптывая посевы. Эхо вторило их пронзительным крикам. На месте деревни в грядах догорающих углей чернели обгорелые печи. Собаки выли, прячась на опушке леса. Я взял свои шахматы и искал партнера. — Лермонтов, я к вашим услугам! — окликнули меня. Выговор и манера Лихарева были безупречны и выдавали жителя Петербурга. Это не вязалось с изможденным лицом и солдатским мундиром. Мы расставили фигуры. Мимо нас конвоиры провели провинившегося солдата. Барабанщики и унтер, несший уставные шпицрутены, означали предстоящую экзекуцию. Далеко над лесом подымались столбы дыма. — Вон и маяки, — показал на них Лихарев. — Славный будет завтра денек. Вокруг нас ставили палатки, стягивали сапоги с убитых, варили кашу. Лихарев думал над ходом. Голубые глаза его и улыбка выражали доброту души несравненную. На краю поляны раздевался наказуемый. Унтер раскладывал шпицрутены. Спокойствие моего партнера бесило меня. — Скажите, Лихарев, — не удержался я. — Если бы пятнадцать лет назад вы знали, что вам предстоит каторга, а потом солдатская шинель, вы все равно вышли бы на Сенатскую площадь? — Непременно, — улыбнулся он. — И действительность не изменила ваших идеалов? — Только подтвердила. Грянули барабаны. Закричал наказуемый. — Вы и подтверждаете, — продолжал — Лихарев. Ваши стихи. И то, что вы в армии. Значит, по-прежнему армия воспитывает лучших русских людей. — Из Петербурга, говорят, два пути, — быстро сказал я. — Один —в Париж, другой — на Кавказ. Один — бежать, — другой — служить. И не мы себе выбираем путь! — Зато больше половины офицеров — ссыльные, — сказал он. — Подумайте, ведь опасно собирать нас в одном месте, да еще в большинстве? Трещали барабаны на месте экзекуции. Татары, топтавшие посевы, теперь расстелили у реки свои коврики и творили вечерний намаз. — Никакой опасности нет. — крикнул я, — Мы являем чудеса храбрости, и это храбрость убийц. Кровь льется нашими руками — руками, как вы выражаетесь, "лучших русских людей". Вы ждете от нас развития ваших идей свободы, нового направления, нового хода мысли? А у нас нет никакого направления! Мы просто собираемся, кутим, делаем карьеру, увлекаем женщин! — Вы-то не так приземлены, — улыбался он своей замечательной улыбкой, которая вызывала во мне одновременно и нежность к нему и раздражение. — Именно так! Идеалы ваши не приходят ни в какое соответствие с действительностью. Мы лишь болтаем и предаем друг друга так же, как болтали и предавали с незапамятных времен! Улыбка исчезла с его лица, Я уже не мог остановиться. — Вы хотите видеть продолжение себя? Продолжения нет. Когда ваша жена не последовала за вами в Сибирь, как последовали другие жены декабристов, вы, конечно, решили, что тут ваша отдельная беда, никак не беда идеи, но в том-то и трагедия и закономерность, что идея существует сама по себе, а жизнь каждого из нас ужасна и бессмысленна. — Вы не имете права на такую жестокость,— сказал он тихо. Наказуемый кричал под шпицрутенами. — Имею право, — сказал я, — потому что завидую вам, завидую Сенатской площади, завидую вашим виселицам и каторге. Вы жили, а мы прозябаем. Время остановилось, идея умерла. На следующее утро, 11 июля, мы вступили в Гехинский лес. Отряд наш был огромен и растянут на версту. Я был в авангарде, где двигались три батальона Куринского егерского полка, две роты сапер и сотня донских. Впереди колыхались сплошной массой черные шапки еще восьми сотен донских казаков князя Белосельского-Белозерского. Со звоном проезжали орудия. Жара была невыносима, воздух тяжел от испарений. Я отогнул воротник. Над допотопным лесом, то столбом, то расстилаясь облаками, дымились зловещие маяки. Только эти дымы говорили о том, что нас ждет. Кроме топота, звона и тяжкого дыхания, никакие звуки не нарушали тишину леса. Противник себя не обнаруживал. Авангард вышел на поляну, вслед за ним потянулась главная колонна с обозом. По мере приближения арьергарда в левой цепи стали раздаваться выстрелы. Командир авангарда Фрейтаг подал мне знак, и я поскакал назад узнать, что стряслось. Монго, ехавший рядом с колонной, церемонно мне поклонился. В зубах его торчала сигара. Много знакомых лиц было в рядах всадников. Взволнованный Глебов помахал мне рукой, печальный Трубецкой проводил кислой улыбкой. Перестрелка в арьергарде усилилась. Когда я оказался в хвосте колонны, арьергард был уже в жарком огне. Неприятель нападал с трех сторон. Пули сыпались отовсюду, даже с вершин деревьев. Кликали лекарей. Из кустов за ноги тащили раненых. — Орудия! Нас отрежут! — крикнул мне полковник Врангель, командовавший арьергардом. Он был растерян. Я поскакал обратно и свернул в лес, уступая дорогу батальону куринцев, мчавшихся на помощь арьергарду. Лес был затянут синим пороховым дымом, ружейные выстрелы сливались в сплошной грохот. Вокруг меня застрельщики левой цепи отступали к дороге под натиском врага. Через мгновение показались толпы чеченцев, с дикой отвагой бежавших на нас из глубины леса. — Вы здесь, мой мрачный философ! Это был Лихарев. Мундир его был окровавлен. Лицо его было искажено гримасой безумного вдохновения. — За мной, братцы! — крикнул он срывающимся голосом, повернулся и пошел навстречу чеченцам, перепрыгивая через корни деревьев. Отступавшие солдаты останавливались и поворачивали за ним. Сам не знаю как, я поскакал тоже. В руке моей была сабля, я рубил, кричал. Он увлек и меня. В это мгновение наши ударили картечью. Я лежал рядом с Лихаревым, спасаясь от своих пуль. — Рабы не могут побеждать, а мы побеждаем, — сказал он отрывисто. — В нас внутри свобода. И, ежели действительно рассуждать философски, идея умереть не может. Мы встали и пошли вперед... Вокруг свистели пули. — Где, например, сейчас ваша холодность? — говорил он увлеченно. — Вы взволнованы, вы рядом со мной. Идея переходит из одной Формы в другую, но путь необратим, так трактует великий Гегель. — Гегель умер от холеры десять лет назад, — сказал я. — Погодите, — остановился Лихарев. — Давайте отрешимся от наших домашних дел. Вы согласны, что идея есть суть мирового процесса? Он был очень хорош, он действительно не слышал и не замечал чеченских выстрелов. — Если я и верю, — отвечал я, — то это лишь доказывает мою слепоту, потому что истинный смысл вещей еще более отдаляется от моего представления об истине. Кажется, солдаты опять отступили, потому что мы остались вдвоем. — Это уж вы цитируете старика Канта, — усмехнулся Лихарев. —Впрочем, все равно. Даже если вещи — только ваши представления о них, то представления ваши, смею вас уверить, совершенно совпадают с моими. С нашими. Какие бы позы вы ни принимали, вы, Лермонтов, —один из нас! Может быть, последний из нас. Спорить-то нам не о чем, милый мой, вы правы. Бог один знает, сколько лет пройдет, когда в России снова явятся люди... Он резко дернулся. Пятно крови расплылось на его груди, он стал падать на меня. Я подхватил его, но не удержал. Он был убит пулей навылет. Чеченцы бежали на меня со всех сторон. |
||
Войска заняли прежний боевой порядок и стали медленно продвигаться вперед. Я скакал к голове колонны. Впереди лес темными клиньями подходил с обеих сторон к дороге. В полуденном небе сверкал остроконечный Казбек. Я догнал Монго и ехал рядом с ним. — Дорога ведет к речке, — сказал Монго. Он очень старался, чтоб столбик пепла не упал с сигары. — Речка остроумно называется Валерик, — сказал Монго, — по-татарски "речка смерти". Никакой реки не было видно. Все снова было тихо, только дыхание, топот и звон. Ни одного выстрела не раздавалось с неприятельской стороны. Мы приблизились к лесу вплотную. Две штурмовые колонны двинулись направо и налево в лес, чтоб обеспечить наше дальнейшее продвижение. Стали снимать с передков артиллерию. В это мгновение невидимый враг открыл убийственный огонь со всех сторон. Я помчался вперед с главной штурмовой колонной. Под копытами лошадей были тела — солдаты, убитые первым залпом. Показались завалы из бревен, похожие скорее на крепости, а не на временные сооружения дикарей, и река перед ними. Это была даже не река, а ручей, но протекал он в глубоких, совершенно отвесных берегах и образовывал как бы крепостной ров, пересекавший наш путь. Лошади были бесполезны. Мы прыгали в реку с обрыва и шли вперед по грудь в воде. Самые ловкие и отважные уже лезли на вражеские срубы. Выстрелы скоро прекратились, и винтовка уступила место кинжалу и штыку. Воды не было видно от сотен людей, коловших, рубивших, топивших друг друга, бивших прикладами, душивших за горло, стаскивавших обратно в кровавый котел тех, кто пытался спастись на скалах. Резались молча, грудь в грудь. То было не сражение, а бойня, ярость и воля превратились в усталость, шли часы, а кровавой нашей работе не было конца. Мертвые ложились в струи потока и затрудняли его движение. Ущелье дымилось кровью, Я бросил кинжал и стоял, задыхаясь, вцепившись в чей-то скользкий мундир, чтоб не упасть. Потом я понял, что держусь за труп. Нет — он открыл глаза. Подхватив его под руки, забыв о ножах черкес, чудом не достигавших меня, я поволок его к берегу. — Пить! — прошептал он. Камни срывались под ногами, берег был крут, но я все-таки вытащил его на узкую площадку, выступ скалы, подымавшийся над потолком. — Пить, — повторил он, -Я полез обратно в речку, отталкивая руки солдат, протянутых ко мне за помощью. Поток стал глубже, оттого, что ниже по течению тела запрудили его совершенно. Я зачерпнул воду в фуражку и вскарабкался на скалу к подпрапорщику. — Пить! — стонал умирающий. Изо всего мира ему нужен был один глоток воды. Я поднес фуражку к его губам. Он глянул и отшатнулся. Только тогда я понял, что принес ему не воду, а кровь. Над нами громоздились скалы, прекрасные как в первый день творения, еще выше — вековой неподвижный лес, а над всем этим — ясное небо и снежные горы.
|
||
Жизнь вошла в свою колею. Я стал весел и болтлив. 9 июня в гостиной Верзилиных девицы убегали от меня с визгом, а я быстро ловил их, потому что глаза мои были завязаны шарфом Эмилии так, что все было видно. Эмилия спряталась от меня в коридоре, но я настиг ее там и обхватил руками, словно в увлечении игрой. Она окаменела в моих объятиях, но освободиться не пыталась. — Эмилия Александровна, — быстро зашептал я, — три недели мы играем в кошки-мышки, я в полной зависимости от вашего слова, улыбки, но даже раба награждают... Ее лицо было близко, я видел морщинки у прищуренных глаз, складки у подбородка и много пудры, а остановиться уже нельзя было. — Когда же награда? — врал я. — Вы все видите. — сказала она,— вам не скучно все видеть? Я поцеловал ее. — Что за радость вам смеяться надо мною? — сказала она. — Вы когда в отряд едете? — Неужели вам жаль будет, если меня убьют? — Мы все в вас влюблены. Вы это хотите слышать? И мужчины, и дамы. Мартынов прямо без ума. Идемте, неприлично тут вдвоем стоять. Мы вернулись в комнату. Глебов с Надей выскочили из своей передней с лесенкой. Надя опять трогала пальцами волосы. — Надя, тебе Мишель сейчас в альбом писать будет! — сказала Эмилия. Явился альбом. — Повязку не снимайте? — приказала Эмилия. — У вас такие ужасные глаза. Хоть минуту отдохнем. Растрепанная Надя смеялась. Глебов смущенно щипал усы. Я писал с завязанными глазами. Свечи и лица сквозь шарф светились пестрыми ореолами. Эмилия прочла через мое плечо:
— О, господи! — вскрикнула Надя, прижав ладони к помятым Глебовым рыжим волосам, и убежала. — Теперь девочку смутили. Зачем все видеть и говорить? — сказала Эмилия. — Я ничего не вижу! Ничего не вижу! — закричал я и, раскинув руки, роняя свечи, побежал по комнате. Монго, сидевший у рояля, заиграл наш "Валь Авроры". Девицы пищали в темноте. Открылась дверь, в светлой передней с лесенкой стоял Мартышка. Я налетел на него и ухватился за его кинжал. — Кто это? Караул! Чеченцы! — Миша, это я, — сказал Мартышка. — Я ничего не вижу! — Что с ним? — спросил Мартынов. — Он сам с собой играет в кошки-мышки, — ответила из темноты Эмилия. — Зажгите свечи, — сказал суетливо Мартышка. — Миша, погоди. Господи, знаете, кто приехал? — Я ничего не вижу! — кричал я. — Столыпин! Сделай с ним что-нибудь, — попросил Мартышка в раздражении. — Послушайте: князь Васильчиков приехал! Он снял комнату у Чилаева и сейчас будет здесь! — А кто это? — хладнокровно спросил Монго? — Васильчиков!!! — Забыл, — вздохнул Монго, — все забыл. Это действие местных вод. Не хотел же пить. — Смейся, смейся! — нервно говорил Мартышка. — Не каждый день бывает! Васильчиков, председатель Государственного совета и комитета министров Российской империи, первый друг государя! Девицы поспешно поднимали свечи и зажигали их. — Российской империи! — повторил я с удовольствием. — Я твою иронию понимаю, — спохватился Мартышка, — но согласись, интересно же... — Комитет министров! — Не сам, сын его, — сказал Мартышка, — сын приехал. — Сам сын!!! — Он замечательный молодой человек, — оправдывался Мартышка, — вы его полюбите... Лермонтов, ты его знаешь!.. Вы встречались. Вот человек, достойный твоего ума, тебе хорошо с ним будет, увидишь! — Я ничего не вижу!!! — Не кричи, сними повязку. Господа, представляете, он не хочет иметь с отцом ничего общего. У него свои убеждения, свой путь. Не берет у отца буквально ни копейки. Служит. За убеждения сослан на Кавказ. Отец чуть не на коленях стоял, предлагал прощение государя. Александр от помощи отца отказался. — Я слыхала, — вдруг произнесла верная Груша, — к ним государь запросто обедать ходит... — Не к нему же, к отцу! — поправил Мартышка, — И они — к государю тоже, — закончила Груша, — во дворец... — Там кормят — так себе, — изрек Монго, — я бывал. — При чем тут обеды? — рассердился Мартышка. — Обильно, но невкусно, — сказал Монго. У него была такая физиономия, что я от смеха с трудом держался на ногах. — Александр Васильчиков год провел в ссылке на Кавказе! Об этом надо помнить! — вскочил Мартышка. — Там, пока из кухни донесут, все остывает,— продолжал Монго. Теперь уже все смеялись, кроме Мартышки. — Год ссылки, а вы смеетесь! — Мартынов, он же не под пулями был, а в канцелярии, — сказал Глебов. — Он заранее знал, что через год вернется к рара. — Да вы представляете его трагедию! — вскричал Мартышка. — Станьте на его место! В голове мечты о свободе, а родной отец — любимый раб тирана! Поймите же, Александр Васильчиков — мученик! — Мученик фавора, — сказал я. — Он умен, интересен, всегда в центре общества, — настаивал Мартышка, — Повара там воруют, как везде, — сказал Монго, — у пищи вкус скучный, трактирный. Не понимаю, Мартынов, чего ты ждешь от этих обедов? Поверь, ничего осбенного! — Ваша ирония глупа! — простонал Мартышка, заглушаемый всеобщим хохотом. — Намеки оскорбительны! Мне не нужны их обеды, поймите — люди есть везде! Всюду пробуждается мысль, в самых высоких сферах... А ты, Лермонтов, завязал глаза, чтоб не видеть, замкнулся в ложном пессимизме... — Я ничего не вижу! — Ты хоть не нападай на него. Он человек умный, образованный, и ему хочется блеснуть. Мы — первые на его пути из изгнания домой. Да он фрака год не надевал! Юноше его привычек — легко ли? — Ты же не снимаешь никогда свой колоссальный роignard, —сказал я невинным тоном, — тебе разве легко? — Я просил не сметь при дамах!!! — прокричал Мартышка, и лицо его налилось кровью. — И в последний раз предупреждаю! Дверь в переднюю с лесенкой открылась, и появился тощий князь Васильчиков. — Заходите, князь, милости просим, — пригласил Мартышка, забыв, что не он здесь хозяин. — Будьте, как дома, — повторила смеясь Эмилия, — в Пятигорске принято без церемоний, у нас запросто! Монго заиграл "Вальс Авроры". — Вот уж подлинно с корабля на бал, — сказал Васильчиков заготовленную фразу. Получилось неловко. Я сразу подхватил Эмилию, всех дам мигом разобрали, закружили в таще. Васильчикову никто не ответил. Только Мартышка взял его под руку, провел к дивану и уселся с ним рядом. Васильчиков был мальчик 22 лет, очень высокого роста, с длинным и строгим лицом. Говорил он неожиданным при таком сложении могучим басом. Мы танцевали, но все наше внимание было приковано к дивану, где ерзал Мартышка, сгорая желанием устроить всеобщий мир. В нем чрезвычайно развито было чувство ответственности. Девицы ждали продолжения спектакля. Обстановка была такая, что любое слово должно было неминуемо вызвать смех. — Князь, — начал Мартышка. Монго заиграл тише. —. Что вы чувствуете на пути домой после долгого отсутствия? — спросил Мартышка. — Я очень счастлив, друг мой, — отвечал басом Васильчиков. Надя пискнула. Васильчиков поглядел на нее с недоумением и продолжал громко и складно: — Счастлив, как всякий русский, долго бывший на чужбине. Только вдали от дома и полюбишь Русь со всеми ее бедами, болезнями, с грязью и нищетой, всю целиком и без разбору. Как у Пушкина — "мой идеал теперь хозяйка, да щей горшок, да сам большой..." — Вот, Мартынов, — "горшок щей", — сказал Монго. Девицы хохотали как от щекотки, — Je ne compre pas — сказал внушительным басом молодой мученик. — Что вы нашли смешного? Я говорю серьезные вещи. — И посуда совсем обыкновенная, — продолжал Монго. — Хорошую прячут к праздникам. Слыхали — "горшок". — Мне сдается, il ya les mots, над которым смеяться совсем нельзя, непатриотично, наконец! — гудел растерянный Васильчиков. Он был умный мальчик. — У меня живот заболел от смеха, — сказала Груша. — Лермонтов, все ты виноват! — вскочил Мартынов. — Князь, я должен объяснить. — Ничего не вижу! — сказал я. — Я не привык, — объявил Васильчиков. — Если я здесь лишний... — Да вы тут как родной! — крикнул Мартышка. — Слова даже не при чем, тут свой стиль, кружок, вы вольетесь, и все станет хорошо! Вы тут найдете сердечное понимание и чувство — как нигде! И все разделяют и знают самую глубину... Только давайте безо всякого, надо запросто. -— Я готов запросто. — согласился князь. — Я люблю. Все эти светские условности... Он закончил одними губами, отвернувшись от дам. Такого рода слова ему не шли, получилось неприлично. — Боже! — сказал Монго. — Вот и хорошо! — подхватил Мартышка. — Если уж мы в своем кругу нападать начнем, куда тогда деваться? Такие люди собрались! Такие люди! Продолжайте, князь, вы так интересно говорили об идеалах народности и простоты... — Да, да! — подхватил я. — Вы нам скажите, князь, что вам больше нравится: кнут или смертная казнь? — Почему вы вдруг об этом? — удивился он. — Вы на Кавказе законность насаждали — и неминуемо должны знать, как правильно наказывать. Потому что нет закона без наказания. Что же идеальное в смысле народности: пороть или вешать? — Мне отвратительно и то и другое, — отвечал он. — но я не понимаю, какое отношение имеет эта тема к разговору? — Чтоб жить с идеалами, надо выбирать! — разъяснил я. — Что вы выбрали бы в случае необходимости? — Смертной казни у нас не существует, — пробормотал он. — Кнут! — воскликнул я. — Кнут народный! — Мишель, вы совсем запутались, — сказала Эмилия. — Чего вдруг про кнут? Вам лишь бы в пику сказать. Ничего на ум не пришло — так нате вам кнут! Наверное, я действительно сказал глупость. — Господа, мне неловко. Я, кажется, внес какую-то смуту, — извинился Васильчиков. — Простите. Я точно не в себе. С дороги. — Уже первый час, — сказал Монго и встал. Мы вышли в сад. Все небо было усыпано звездами. |
||
Если мне нет оправдания, то молодость и пылкость послужат хотя бы объяснением, ибо страсть сильнее холодного рассудка. 24 февраля 1837 года я сидел под арестом в камере на верхнем этаже Главного штаба. Часовой звенел в коридоре прикладом, неизвестный сосед пел за стеной. В розовом свете угасающей зари я писал печной сажей на клочках серой бумаги, в которой приносили мне хлеб. Романтических чернил моих было предостаточно, стоило лишь взобраться на стул и открыть вьюшку. Когда я открывал ее, голос соседа слышался громче, слов нельзя было разобрать, но звуки русской песни были ясны, лились чередой. Я стоял на стуле, прильнув к печке, когда ключ заскрежетал в замке, дверь открылась, и в камеру вошел незнакомый господин. Я ждал допроса и с гордой усмешкой смотрел на него с моего возвышения. Одет он был в штатское платье, лицо его, красное от мороза, выражало нравственное и физическое здоровье. Он поклонился мне и жестом показал, чтобы я не торопился слезать, подошел к печке, погрел щеку, потом другую, проследовал к столу, понюхал из стоявшей там бутылки, тронул мои бумажки. Звуки русской тоски за стеной падали, как слезы. Красный сумрак сгущался. — Давно ли вы здесь? — спросил гость с приятельской небрежностью. Я спрыгнул со стула. Он подул на сиденье и сел. — Мерси. Я ждал. — С самого начала знайте — я ваш друг и полностью разделяю горе и порыв, который привел вас сюда. Смерть Пушкина — беда для всех, и ваши стихи так точно выразили... — Я от стихов не отрекусь! — прервал я его. — Ради бога, не отрекайтесь! — воскликнул он и прижал ладонь к губам, оглянулся на дверь. — Успех огромный! — продолжал он, понизив голос. — Десятки тысяч списков ходят по Петербургу. Всякий любитель словесности счастлив добыть копию. Я с трудом достал через самого Жуковского. Ну, как вам живется в славе? Видно было, что он привык водиться с баловнями фортуны. — Вот моя слава, — объявил я, указывая на стены камеры. — Зато о вас говорят! Могу донести, что Жуковский признал не только зачатки, но и все проявление могучего таланта. Полагают уже, что вы — смена Пушкину! — Другого Пушкина быть не может, — сказал я с лишней бравадой. — Избави бог, — согласился гость. — Солнце русской поэзии одно. Но, кроме солнца, пусть горят и другие светила. Мы ждем от вас многого. Склонив голову набок, он с улыбкой любовался моим смущением. — Вот какие новости принес я вам в ваше уединение, — сказал он и с той же улыбкой спросил: — Отчего вы не спрашиваете, кто я? — Кто вы? — Я старший медик гвардейского корпуса. Его императорское величество распорядились, чтобы я посетил вас и удостоверился, не помешаны ли вы. |
||
Теперь он любовался моим испугом. — Помешан? — переспросил я. Он молчал. — Отчего вдруг — помешан? Что в стихах такого?! — Вы встревожились? — рассмеялся он. — Поверьте, я исполняю приказ с удовольствием, поскольку это повод познакомиться с вами. Сколько вам лет? — Двадцать два... Если я помешан, то в стихах какое-то безобразие, гадость какая-то сверх всякой меры, в чем, скажите! — Ни в чем. Успокойтесь, не то я расскажу, в какой позе застал вас мой визит. — Я сажу добывал, — объяснил я торопливо. — Сажу? Зачем сажу? — Я ею пишу, мне чернил не дают!.. — Ну да, конечно, сажа, — он рассматривал мои клочки серой бумаги. Взгляд его был другой, цепкий. В нём словно сидели два человека: любитель словесности и доносчик, и он очень заботился, чтобы оба развились в полной мере. Видно было, что он обоих любил. — Стихи ваши отличные, — сказал он. — Но государя можно понять, стихи странные, недобрые. Государь справедлив, а у вас получается, будто мы все виноваты, что Пушкина нет. — Так и следует понимать, — сказал я твердо. — В нашей поэзии необходим точный расчет, — улыбался он. — Жуковский — замечательный поэт, всеми уважаем, любим — и никаких неприятностей. Вижу, вижу, это не для вас! Чем вы были больны, когда писали "Смерть поэта", вы же не служили в эти дни? — Я был простужен. — Так мне и сказали... Ах, как это прелестно! Он придвинул серый листок и прочел:
В конце особенно:
Он умолк. Два его любимые человека боролись в нем. В камере было уже темно. Часовой внес свечу. — Это не буквально? — спросил медик. — Что? — То, что вы видите бога? — Буквально. Он улыбнулся и погрозил мне пальцем. Петербург спал в сугробах. Меня везли в коляске под присмотром жандармского офицера. — Здесь Пушкин жил, сочинитель, — сообщил мне жандарм на набережной Мойки. — Едем мягко, чувствуете? Здесь солома лежит, постелили, когда он кончался, — для тишины. Солома осталась — а он где? Маленький особняк третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии был совсем рядом с Пушкиным. Я вошел, всеми силами стараясь хранить достоинство, даже слишком прямо вздернув подбородок. В скромной комнате офицер оставил меня. Чиновники перекладывали бумаги. Знакомый старый генерал холодно кивнул мне и продолжал втолковывать сонному лакею: — Потом поедешь в ресторацию за паштетами, хозяин знает. Отвезешь домой, пусть делают прибавление к обеду, будут гости... На меня никто не обращал внимания. Я был готов к разносу, к обвинениям, но только не к обыденности этой комнаты с бумажным шорохом и домашним разговором. Моя храбрость никем не была замечена, она была тут смешна. Я видел, что им скучно заниматься мною, — и это пугало сильнее всяких обвинений. Старик отпустил лакея, и со вздохом обратился ко мне. — Ну как с тобой быть? — начал он лениво и сразу умолк, занявшись только что принесенными бумагами. Я ждал. — Я с тобой попросту, на "ты". Не обижаешься? — спросил он, наконец. Я решил не отвечать, чтоб разозлить его, но он не думал злиться — Знаешь, почему ты здесь? — За стихи! — Ах, нет, — поморщился генерал, — стихи твои так дурны, что не заслуживают ареста. Твоя слава от зимы, от скуки. Публика рада развлечению... Он углубился в чтение бумаг. Я почувствовал смутное беспокойство. Он словно забыл обо мне, потом вдруг отложил бумаги и сказал, улыбнувшись: — Стихи должны рождаться от страсти. Тогда хороши. Ты раньше печатался? — Восточная повесть "Хаджи-Абрек" была напечатана, — сказал я, теряясь. — А драма "Маскарад" не была поставлена по причине — так мне сказали — слишком резких страстей. И потому, что добродетель недостаточно вознаграждена. — Доброта цензора — наша беда. — усмехнулся старик. — Нет чтоб сразу и честно указать на бездарность автора. Мудрит, чтобы не обидеть. А лучше вовремя остановить, чтоб не доводить искателя славы до крайности. Ты здесь не за стихи, а за поведение, недостойное офицера. Стихи — дрянь, но в них — чуть ли не призыв к революции! — Ваше превосходительство, я никак не предполагал, — бормотал я. — В твоем возрасте, — остановил он меня, — надо баб любить, а не марать бумагу. Пушкин-то по части баб был отчаянный молодец! "Я помню чудное мгновенье"!.. А? Чиновники тихо рассмеялись. —. Пушкин был — мужчина! — генерал постучал кулаком по столу. —А ты — сопляк, мальчишка, Он скривился от отвращения ко мне и продолжал: — Твои "надменные потомки известной подлостью" — это все слова. Слова! Желание поразить. От кого ты Пушкина защищаешь? От нас? Не надо. Мы его сами защитим. Он — наш. И к славе его не примажешься. Хотел славы — искал бы ее в сраженьях, а не в гостиных петербургских сплетниц. Ты был гвардейский офицер — слуга его величества... — Ваше превосходительство, — уже оправдывался я, — я только излил на бумагу сердечную горечь... — Не хотел быть офицером — пойдешь в солдаты, — прервал он меня. Слова эти были сказаны спокойно и тихо. Никто из чиновников даже не обернулся взглянуть, как я приму известие. Мне было двадцать два года, жизнь была кончена. — Отправишься на четверть века белую лямку тянуть, — говорил старик, — Обрадуешь бабку. Тебя бабка воспитывала? Я хотел отвечать, но язык не повиновался мне. — Бабка-то не порола, — сказал генерал и зевнул, — а в солдатах попробуешь и шпицрутенов. — Ваше превосходительство... — прошептал я. — Довольно, — отмахнулся он. Его древние светлые глаза смотрели на меня безо всякого интереса. Он, видно, с трудом понимал, что я еще здесь, сижу перед ним и надо со мной говорить. Чиновник, склонившийся над его плечом, указывал в бумаги. — Государь, — сказал генерал и пожевал губами, — в своей великой милости прощает тебя. В солдаты тебя на сей раз не сдадут. Ты переведен в полк на Кавказ тем же чином. Понюхаешь пороху. Ступай. Меня простили. Жалкая улыбка благодарности явилась на моих губах, я не мог остановить ее. Я шел по набережной среди сугробов. Шинель моя была расстегнута. Под ногами моими была солома, перемешанная с навозом у дома Пушкина. Я взял снег из сугроба и тер лицо. Снег был ломкий, как стекло. Лоб мой горел, стыд переполнял меня, но слезы не шли. |
||
Две тысячи цветных бумажных фонарей висели связками в комнатах надворного флигеля. Посреди гостиной я строил громадную люстру из трех ярусов обручей, увитых цветами и ползучими растениями. Глебов, управляясь одной рукой, рубил в саду виноградные лозы, мы с Монго плели гирлянды. Мученик фавора резал цветную бумагу. |
||
На подоконнике, храня неподвижность простреленной горцами шеи, восседал, завернувшись в персидскую шаль, красивый и пьяный Сергей Трубецкой и вещал: — Жизнь — это пир. Пир этот надо продолжить как можно долее и закончить, когда вино все будет выпито. — Пить надо умеючи, — возражал толстый князь Голицын, презрительно наблюдавший наши труды. — Вы, Трубецкой, самовольно покинули отряд, живете в городе без разрешения и можете быть отданы под суд! — Ваше сиятельство, господин полковник, — отвечал Трубецкой. — Вы здесь не командир, а частное лицо, а я пью исключительно для поправления здоровья — воды! Поскольку год со времен славной речки Валерик не могу повернуть головы вбок и вижу только, то, что впереди, то есть ничего хорошего не вижу. — Господа, если уж вы сбежали из отряда, — настаивал Голицын, — воспользуйтесь своим временем со вкусом! Может быть, я плохо командую артиллерией, но в устройствах развлечений я знаю толк. Неприлично устраивать бал в гроте на бульваре и угощать женщин хорошего общества трактирным ужином после танцев с кем ни попало на открытом воздухе! — Я деньги по подписке собрал, — сказал плохо слушавший Трубецкой. — Все будет отлично. И буфет. — Вы — офицер! — торжественно провозглашал Голицын. — Вы будете вспоминать этот бал в боевых походах, возможно, для кого-нибудь из вас он будет последний. — Для Мартынова, — сказал я. — Он хочет к чеченцам бежать. В горы. — Что?! — взревел Мартышка. — Ага, он уже костюм добыл, — согласился Трубецкой. — Он совсем готов — на волю, — закончил я. — Бо-оже мой! — схватился за голову Мартышка. — Господа, оставьте, что за шутки! — возмутился полковник. — Голицын, — обратился я к нему развязно, — здесь не Петербург. Что неприлично в столице, совершенно на месте на водах с разношерстным обществом, — Точно, — согласился Трубецкой. — В Петербурге Амели Крюденер государю не дала, а Монге дала, поэтому Монго там не на месте, а здесь на месте. — Сережа, — сказал ему заботливо Мартынов. — Выйдем со мной в сад. Он решил не обижаться. — Не хочу, — отшатнулся Трубецкой. — Ты меня зарежешь! — В последний раз вам советую, — сказал Голицын. — Устроим бал не в гроте, а в казенном ботаническом саду за городом. Зачем танцевать под носом у публики и раздражать обывателей? — В ботаническом саду — далеко, — сказал я. — Будет затруднительно уставших после танцев дам,препроводить в город. И пока сюда доедем — остынут! — Я вижу, Лермонтов, вы не отличаете дам общества от баб из капитанской слободки! — расстроился Голицын. — Да-а. Здешних дикарей надо учить... Или вы темноты боитесь — возвращаться? — Полковник! — взвился Мартышка. — Вы в свое время Лермонтова к золотой полусабле за храбрость представляли, тем более странно звучит ваш тон! Мартышка очень хотел со мной дружить. — Лермонтов, он тебя защищает, — сказал Трубецкой. — Да, защищаю! — сказал Мартышка с вызовом. — С вами не договоришься, — махнул рукой Голицын и ушел. Мартышка победно глядел ему вслед — я не мог удержаться от смеха. — Мне кажется, Мартынов вполне благородно вступился, — сказал басом Васильчиков, — смеяться тут не над чем. — Пустяки, князь, — сказал Мартышка, сел на диван и открыл лежавший там альбом. Я толкнул Монго и показал на Мартынова. Монго живо встал, сел рядом с ним и положил руку на альбом: — Я прошу тебя не смотреть. — В чем дело? — насторожился Мартышка. — Что вы от меня скрываете? Вошел Глебов с охапкой виноградных лоз, увидел, что происходит, и позвал: — Мартынов, помоги мне. Мартышка не поддался. — Я видел — там рисунки, — сказал он. — Ничего особенного, это наш журнал, — сказал Монго. —Мы здесь изображаем все, что с нами происходит, в карикатурах. — Пусть смотрит, если хочет, — сказал я. Мне стало интересно, насколько его хватит. Он раскрыл альбом. — Монго, это же ты, — рассмеялся он, — похож! — Я, — отвечал Монго. — И не обижаюсь. А это, вроде кошки, вцепился в моего коня — это Мишель. Он тоже не обижается. Он говорил терпеливо, как с ребенком. — А это кто? — спросил Мартынов и умолк. Он листал альбом медленно и вымученно улыбался, потом улыбка исчезла, лицо его стало неподвижно. — Замечательно ловко Лермонтов тебя изображает, — говорил Трубецкой, повернувшись всем корпусом, чтобы заглянуть в альбом. — Одним росчерком пера — и выделяет только кинжал. — Дальше смотреть не надо, — посоветовал Монго. Но Мартынов смотрел. — Мартынов, ты наш спаситель, — прогудел в тишине Васильчиков. — Мишенью для шуток Лермонтова мог стать любой из нас. А правда, почему именно Мартынов? — Столыпин, — попросил Мартынов тихо. — Я прошу тебя, выйдем со мной, пожалуйста... Монго, обернувшись ко мне, сделал гримасу. Они вышли. — Мне жаль его, он добрый малый, — сказал Васильчиков. — Он — обезьяна, — сказал я и прошел в свою комнату. Там была дверь в комнату Монго, она была затворена, но голоса Мартынова и Алексея были отчетливо слышны. Я ел черешни и слушал. — Он ненавидит меня, — говорил Мартышка. — За что? В чем моя вина перед ним? Я уважаю и люблю его, я не заслужил! Шутки его так утомительны, злы, издевательство так однообразно! Почему он выбрал меня?1 — Не знаю, — отвечал ровный голос Монго. — Вы с ним близки. Он говорил тебе? — Нет. — Я доведен до крайности! — выкрикнул Мартынов. Послышались отрывистые, квакающие звуки. Он плакал. — Ну, зачем так? — сказал Монго. — Нехорошо. Ты не красная девица. Шурша платком, Мартышка сморкался. — Может быть, сменить это платье, снять проклятый кинжал? — спросил он. — Еще хуже будет, — сказал Монго. — Я не понимаю, за что?? — всхлипывал Мартынов. Мне стало жаль его, я открыл дверь. Он увидел меня. В глазах его были ужас и страдание. — Ты подслушивал? — прошептал он. —Да. Он вдруг улыбнулся и заговорил быстро, не скрывая слез. — Миша, ты пойми, ты счастливый человек... У тебя талант, ты словами можешь выразить самую последнюю степень отчаяния, ты пишешь, что о смерти мечтаешь, но не в душе хоронишь, а пишешь, находишь прекрасные слова, и само горе превращается в изящные строки, и тебе легче... В народе счастье называют "талант". Да, я завидую тебе! Я так же бесконечно одинок, как ты, Миша, все люди одиноки, но твое одиночество дарит тебе вдохновение — высшее счастье от бога, а наше одиночество — смешно! Лучше б он молчал. — Вдохновение — бред и раздражение пленной мысли! — сказал я. — Счастье только — любить. Он разозлил меня. — И это ты говоришь — любить! — воскликнул Мартышка. — Да как мне можно понять тебя?! — Дикарь, когда хочет понять, — съедает, — отвечал я. — Чтоб понять меня, тебе придется меня съесть. — Я никогда не пойму, Миша! — А вдруг поймешь, вдруг? |
||
Как прекрасны были дамы при свете фонарей, при пестром, тусклом их свете! Бальная музыка стояла в аллее, хор военной музыки — в скалах над гротом. Небо было так чисто, ни один листок не шевелился на деревьях. Свод маленького грота мы убрали цветными шалями, с круглым зеркалом в центре, люстра моя сверкала. Красное сукно тянулось лентою до палатки, назначенной быть уборной для дам. Она также была украшена шалями и снабжена всем необходимым для самой взыскательной красавицы. В гроте было тесно, мы танцевали на площадке перед ним. Из темноты — единственной границы нашей залы — неприглашенные наблюдали наше веселье на бульваре в центре города со смесью презрения и зависти. Глебов кружился только со своей Надей, я пригласил Эмилию. Она раскраснелась, опьяненная праздником, щурилась, это необыкновенно к ней шло. Вся неопределенность ее двадцати пяти лет, скука, усталость, чужие умные слова — все было забыто в танце, она была легка, свежа. Надя все исчезала с Глебовым, и возвращалась с расширенными зрачками, поправляя прическу тонкими пальчиками, даже третья грация, верная Груша, танцевала с чужими и клонила на чужие эполеты прелестное лицо. Музыка "Вальса Авроры", фонари, платья дам, аромат их дыхания, все было так хорошо, чисто, понятно... Вдруг? — Вдруг, Коля? — шепнул я, пролетая мимо него. Он явился на бал в своей белой черкеске с серебряными газырями, но на поясе висел не один кинжал, а два. По тому, как надменно он поглядывал на меня, я понял, что второй кинжал был вызовом. Он удивительно умел делать все невпопад. Конфеты, мороженое и фрукты подавали беспрестанно, я необыкновенно много танцевал, да и все общество было как-то особенно настроено к веселью. Роскошный буфет, шампанское во льду и удивительные, присланные Найтаки блюда, в которых распятые перепела и стоявшие на хвостах раки венчали пирамиды французских яств, возбуждали аппетит дам и жажду мужчин. Свободное явление чувств на глазах у степных помещиков немало способствовало нашим развлечениям. Катенька была замечательно хороша, я танцевал уже с ней. Ее смуглое детское личико выражало неподдельный восторг, словно это был первый был в ее жизни. — Сегодня особенно как-то светло, — говорила она мне, — и это все вы придумали, кузен, я знаю! Как вам, должно быть, не хватает сейчас ее!.. — Кого?! — Вы же хотели вспоминать ее со мной, помните? Она говорила о Вареньке. — Какая она была? — На лбу ее было родимое пятнышко, — вспомнил я. — Мы ее дразнили: "У Вареньки родинка, Варенька уродинка!" — А почему вы не женились на ней? — Ну что я могу вам ответить? — Как хорошо, что вы не ухаживаете за мной, — улыбалась Катенька. — Мы можем совсем свободно говорить. Я могу вам признаться, что вы сегодня необыкновенно хороши, я вас очень люблю. — За что меня любить? — Знаете, я ваших стихов совсем не понимаю. — сообщила радостно Катенька. — Я здесь все, что достала, прочла. Я не понимаю, но чувствую... Она сидела на лавке, крытой ковром, и ела мороженое, слизывая понемножку языком. — Вы все время решаете, ненавидеть людей или презирать их, — объяснила она. — Вы презираете оттого, что любите, да? — Их? — спросил я, указывая на чету степных помещиков, любовавшихся бесплатным зрелищем. — У Вареньки родинка, Варенька уродинка!. — улыбнулась Катенька. — Вы все неправду пишите. Вы их не ненавидите и не презираете. Вы без них жить не можете! От простоты ее слов я сам себе стал смешон, мне сделалось еще веселее. — То о смерти, то о ненависти — вы все придумываете, втолковывала мне Катенька. Я тронул пальцем золотое бандо в черной головке. — И Вареньку свою вы придумали, — сказала Катенька. — Варенька была. — Была, но вы все равно придумали. И гадалку придумали. Она предсказала вам не смерть, а любовь. Они всегда предсказывают любовь... — Смерть. Впрочем — это одно и то же. — Будет вам про страшное думать! Глядите, Мартышка глупый второй кинжал нацепил! Мартынов пил в буфете. |
||
Вершины деревьев чуть проступили во тьме, первый отблеск утренней зари упал на бульвар. Праздник наш продолжался всю ночь. Музыка играла уже нестройно. Белые пятна разбредавшихся групп оживляли сумрак бульвара — уходили с фонарями в руках. Я провожал Катеньку. — Завтра я уезжаю в Железноводск и стану бывать здесь редко, — говорил я. — Зачем так? — Там работать спокойнее, я снял там квартиру. Вы приедете ко мне в гости? — Если Обыденная захочет. Я не видел лица ее в темноте, она вдруг притихла Голоса перекликались в аллеях, музыка смолкла. Катенька была проста, открыта, я подумал, что в ней, может быть, мое спасение, и испугался. — Катя, душенька! — окликнули сзади. Я с трудом различил в темноте группу лиц. Молоденький офицер с фонарем в руке догнал нас. — Катя! Вы не сдержали обещания, — сказал он, запыхавшись. — Вы не танцевали со мной, хоть проводить вас! Смелость его была подогрета шампанским. — Я провожу кузину, — сказал я и взял Катеньку за руку. — А, это же вы! Пардон, — пробормотал он и вернулся в темноту к своим. Когда он приблизился к ним с фонарем, я узнал Васильчикова и Мартынова. С ними шел еврей из оркестра и играл им на скрипке. — Как глупо, — сказала Катенька. — Идемте скорей. Я удержал ее. Мы остановились и сошли с аллеи в сторону. Разговор сзади был самый мирный и сонный. — Ты, Лисаневич, ... удивительный, — гудел Васильчиков. — Тебя в нос щелкнули, а ты — спасибо. — А как я должен поступить? — спросил офицерик. — Куражиться! — отвечал Васильчиков. — После бала самое время заботиться о чести. — Что я, сатисфакции потребую у дамы? — У дамы — нет, у спутника ее... — А спутник чем виноват? — Ты шампанское пил? Куражься! — И ты пил! — Дуэли — аристократическая пошлость, — сказал Васильчиков. — Я не дерусь. Но пять раз был арбитром. — Секундантом? — переспросил Мартынов. — Да, арбитром. При моих родственниках мне только на дуэлях драться. Отец — председатель Государственного совета, дядя — московский генерал-губернатор, зять — придворный. Государь за дуэли преследует. Мне иногда даже хочется стрелять, посмотреть, что станет с моими милыми родственниками! В его ирония был оттенок гордости. — Вот ты и стреляйся, — нетвердо выговорил офицерик. — Мы говорим о нем не как о поэте, а как о частном лице, — рассуждал Васильчиков. — Как поэт он много обещает, тут обижаться глупо. Вот, например, что я прочел, — мелом было написано на карточном столе: "Наш князь Васильчиков по батюшке, шеф простофиль, глупцов по дядюшке, идя в кадриль шутов по зятюшке, в речь вводит стиль донцов по матушке". Прелестно, да? Мы стояли за деревьями. Ослепленные светом своего фонаря, разговаривающие не видели нас и прошли мимо. — Но в поведении его есть черты, — продолжал Васильчиков, — которые трудно соглашаются с понятием о гиганте поэзии. — В человеке все смешано, — сказал задумчиво Мартынов. — И поэзия, и частная жизнь. — И в поэзии он путаник, — гудел Васильчиков. — "По матушке" — смешно, остальное зло и неверно. Я далек от своих родственников... А частную жизнь должно всегда отделять. Длинная тень его доставала до моих ног. — Всегда должно отделять, — повторил он. — Должно, — сказал Мартынов. — Это верно. Должно! Свет их фонаря пропал. Скрипач ушел за ними, играя на своей скрипке. Я все еще держал Катину руку. Мы стояли тесно друг к другу в нашем убежище. — Катенька! — просил я. Она в ожидании подняла ко мне лицо. — Ты ко мне приедешь? Я спрашивал, как давно, в детстве, откладывая радость на потом. — Не знаю, — сказала она. Мы были одни в спящем Пятигорске. Машук, рождаясь из темноты, казался громадным. — Я буду так ждать тебя, ты приедешь? — А зачем? — Ты обязательно приезжай! — Спокойной ночи, кузен, спасибо... Почему-то мне, дураку, важно было, чтоб не теперь, а потом. |
||
Смятый бумажный фонарь валялся у нашей двери. Я тихо вошел в дом. Монго храпел на своем диване одетый, но усы были завернуты шелковой бумагой. Я на цыпочках пробрался к себе, сел к столу, вырвал из тетради страницу со стихами и раскурил ею трубку. Спать не хотелось. Я оставил трубку и вышел во двор. Еще не рассвело. Все оцепенело в предутренней тишине. Я побрел через сад к воротам. Звон моих шагов по плитам дорожки был оглушителен. Я сошел на траву. Теперь я словно слился с темнотой сада и города; темнота была белесая, туманная, стволы и сеть неподвижных веток являлись из небытия, только когда я почти касался их. Человек, сидевший на скамейке у ворот, предстал передо мной так же неожиданно. Это был Мартынов. Мне хотелось быть одному, но я не мог выйти со двора, минуя его. С глупой своей буркой на плечах он сидел один в темноте, голова его чуть двигалась, пальцы чертили в воздухе: он мысленно с кем-то разговаривал. Мне опять стало жаль его. Он вздрогнул, почувствовав меня, обернулся и молчал, не зная, как себя со мной вести. Из темноты донесся плачущий голос эоловой арфы. — Что ты? — спросил Мартынов тихо и недоверчиво. — Не спится, — усмехнулся я. — Мне тоже,— с облегчением зашептал он. — Знаешь, я лег, час проспал и вскочил... Он меня боялся. — Вчера было так хорошо, — сказал он. — Ночь замечательная. Будто праздник продолжается, да? — Ты не сердись на меня, — попросил я. — Не обижайся. Я скоро еду в отряд, а там, бог знает, может, никогда не увидимся. Я протянул ему руку, он подал мне свою. — Пойду, — сказал я и показал неопределенно — в туман. — Я с тобой? — спросил Мартынов. Мы вышли на улицу, у которой одна сторона была — наш забор, а другая — степь, камни и горы, пошли мимо темных окон Верзилиных и Кати, по Дворянской, вверх по бульвару. Мартынов шел не рядом со мной, а отставая немного, то вовсе пропадая в темноте, то нагоняя меня, он шагал по другой стороне улицы, словно повторяя мое движение по городу, повторяя мое одиночество среди спящих белых домов, повторяя мое молчание. Ему казалось, что, повторяя, он вдруг станет видеть, чувствовать, как я, и, наконец, поймет. Мы прошли город и подымались по узким кремнистым тропинкам в гору к источникам. Деревья рисовались здесь четче, тьма расступалась впереди и, наоборот, сгущалась за нашей спиной внизу, в городе. Вокруг по-прежнему не было ни души. Стоны эоловой арфы слышались здесь громче. Мы миновали камни и колонны Елизаветинской галереи и подымались все выше. Здесь уже было утро, небо было светло, ночь осталась внизу. Белая фигура мелькнула впереди — казачка, подобрав подол, гремя пятками по осыпающим камням, метнулась в орешник. Мартынов возбужденно дышал за моей спиной. Нас обступила роща, пронизанная солнечными лучами, клены, акации и каштаны смыкали над нами своды, тропинка петляла, раздваивалась темная глубина рощи наполнилась звуками. Шепоты, шорохи, смех слышались со всех второй, и внезапно, со следующим поворотом тропинки, лес расступился, сквозь редкие деревья открылись обнаженный склон и долина, и далекие горд. В кустах пискнул женский голос, на мгновение явилась белая грудь, розовая улыбка, рубашка на траве — и все пропало, но впереди таким же белым и розовым сверкало утро над темной долиной. Я обернулся к Мартынову, он догнал меня и встал рядом. Пейзаж, открывшийся перед нами, был грандиозен: проснувшиеся светлые горы и спящая глубоко внизу черная земля с блестящей лентой Подкумка. На сером каменном склоне у наших ног естественным и великолепным дополнением панорамы была чаша общей ванны — выложенный камнем бассейн целебной воды. В священной тишине утра здесь совершался обряд купания. Мужики и бабы, казаки, калмыки, чеченцы, раздевшись в редком орешнике, без разбору лет, общественного положения и пола, с библейской простотой и торжественностью погружались во влагу, нагретую для них природой. Свет сходил с гор в долину, и тьма сжималась в городских кварталах на дне ее. — Ты часто приходишь сюда утром? — спросил Мартынов. Голос его прерывался от волнения. Я молча кивнул. — Господи, какая красота? — воскликнул Мартынов и сбросил бурку на камни. — Рассвет и люди, утро как обещание лучшего завтрашнего дня, нет — сегодняшнего... Ты как думаешь сейчас? Мы одинаково думаем? Да? — Да. — Ты меня привел, чтобы я увидел, как ты? — спрашивал он. —Я вижу! Вижу, как ты. Не дано же тебе видеть больше? Больше и невозможно, да? А ты говорил, что я не смогу понять тебя!.. Я побежал вниз, раздеваясь на ходу. Мартынов запрыгал за мною. — Все вместе, да, Миша? Все вместе? — говорил он, бросаясь за мной в воду. — И об этом будет твой новый роман? Он видел всех, я видел каждого. Рядом со мной в горячую воду опускался лакей, подававший нам у Найтаки, кухарка отца Эрастова, плац-адъютант Сидери, желтая немка Раиса. Я брызгал в лицо Мартынову, он хохотал. — Не плещись, я ужасно щекотлив! — смеялся он. Потом я поднимался вверх по каменистому склону, щебень осыпался под ногами. Мокрый, ничего не понявший Мартышка кричал: — Миша, это утро всего меня перевернуло! Ах, как я все понял! Друг мой, Миша, ты такой же, как все, ты так же прост и мал. Васильчиков глуп: говорит, что должно отделять. Нет — твоя поэзия, ты сам и мир божий — это все одно! Наша малость и великие горы — одно! А, значит, и я, Николай Мартынов, так же велик и прекрасен, как ты, как весь мир, да, Миша? Наше ничтожество и есть наше величие! Зачем я его привел сюда? — Ты меня совсем затравил! — кричал Мартышка. — А сегодня показал — и разбудил. Я замучился, страдал, верил, что я черт знает что, а я — такой, как ты. Я не должен стесняться себя, Миша. Я прекрасен. — Это у тебя утренняя аффектация, — объяснил я ему. — Так бывает если выпьешь и не проспишься как следует. — Нет уж, довольно! — захохотал он и со счастливой фамильярностью ударил меня по плечу. — Я больше тебя не боюсь. Теперь ты меня не собьешь! Люди равны и прекрасны, да, Миша? Мы с тобой равны! Прекрасное действовало на него, как электричество действует на труп — тело конвульсивно дергалось. Выжимая мокрую рубаху, надевая черкеску и папаху, он прыгал и плясал на камнях и кричал: — Я прекрасен! Горное эхо повторяло его вопли. Он прыгнул ко мне, вцепился в мои плечи обеими руками и прокричал мне в лицо с особенной страстью: — Никогда больше не дразни меня, Миша, слышишь? Никогда!
|
||
Я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очертания предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее... 13 июля я прискакал из Железноводска в Пятигорск и поднял Черкеса на дыбы у окон Верзилиных, Надя захлопала в ладоши, В маленькой передней с лесенкой звенели на стекле мухи, В гостиной гудел голос Васильчикова: — Я, слава богу, хорошо знаю государя. Государь вовсе не злой человек, он любит Россию и служит ей с удивительным упорством. но он совсем не понимает ее... Я вошел. — Государь по-детски неопытен в оценке людей, — говорил Васильчиков. — Его награды потеряли цену, чины и ордена сыплются в безмерном количестве на людей ничтожных! Мартынов стоял у рояля со значительным видом. — Лермонтов, вы кстати приехали. — обратился ко мне Васильчков. — У нас горе. Мартынов получил известие, что его лишили обещанной награды за осеннюю экспедицию. — Почему горе? — удивился я. — Мартынов, я тебя поздравляю! Тебя лишили награды, выходит. что тобой недовольны. Очевидно, они знают твои идеи и понимают, что ты настоящий Мартынов тупо молчал, не зная, как принять мои слова на этот раз. — Montagnard, — пояснил я всем. — означает то же, что карбонарий. Друг народа. Я сел рядом с Эмилией. Васильчиков строго посмотрел на меня и сказал басом: — Мы думаем, как развлечь нашего героя. Отправимся к Найтаки или будем веселиться здесь? Мечта мученика фавора исполнилась. В мое отсутствие он возглавил общество. Все были довольны. Мартышка дулся от гордости. Эмилия все смотрела на него и щурилась. — Эмилия Александровна. — шепнул я. — неужто стрела попала в цель? — Простите? — обернулась она ко мне надменно. — Берегитесь его. — сказал я тихо. — Он прекрасен. — Если б я была мужчина. — прошипела она. — я б вас даже не на дуэль вызвала, а просто убила бы из-за угла. — И добавила громко; — Вы знаете Пушкина? — Знакомая фамилия. — сказал я. Майор Левушка Пушкин из-за ее плеча скорчил мне рожу. Они были похожи с Александром Сергеевичем как две капли воды. — Это Лев Сергеевич, младший брат поэта. — сказала Эмилия. — Пойдем в казино? — спросил князь. — У Найтаки сегодня ужин офицеров, отъезжающих в армию. — сказал робко незнакомый мальчик. — Юнкер Бенкендорф. — представила его Эмилия. — И Бенкендорф с нами? — сказал я. — Господин Беккендорф — дальний родственник графа Беккендорфа, — уточнила Эмилия. — Останемся здесь, ваше сиятельство! — обратился я к Васильчикову. — Чего нам не хватает — даже Пушкин с Бенкендорфом на месте! — Погоди, Лермонтов! — остановил меня Васильчиков. — Пусть решает наш герой. — Я уже решил. — сказал Мартынов. — Не имеет значения, где быть, главное, как понимаешь себе сам. Да, Лермонтов? Он был настроен воинственно. Эмилия все щурилась. — Танцуем. господа! — провозгласил Васильчиков и неуклюже взмахнул длинными руками. Трубецкой, трезвый и злой, играл вальс. — Мадмуазель Эмилия, — поклонился я. — Прошу вас на один тур вальса, последний в моей жизни. — Так и быть, в последний раз пойдемте, если вы дадите слово не сердить меня больше. Мы провальсировали круг и вернулись на наш диван. Мартышка шел к нам пригласить Эмилию. Серьезность его была трогательна. — Будьте осторожны, — улыбнулся я. — К нам приближается montagnard au grand poignard. Как раз в этот момент Трубецкой ударил последний аккорд и слово poignard прозвучало по всей зале. Мартынов подошел и сказал: — Сколько раз я просил тебя оставить свои шутки при дамах! Он так быстро отвернулся, что я не успел ответить. — Язык мой — враг мой, — заметила Эмилия. — Это ничего, — сказал я. — завтра мы будем добрыми друзьями. Когда стали расходиться. в маленькой передней, где те же мухи звенели на стекле, Мартынов взял меня за руку. Монго и Трубецкой ушли вперед. — Я много раз просил тебя удержаться от насмешек на мой счет, — сказал Мартынов. — Твои проповеди мне не нравятся, — сказал я. — Вместо пустых угроз ты бы лучше делал, если бы действовал. В открытую дверь гостиной виден был угол рояля. Выглянули и пропали рыжая Надя с Глебов. — Я готов действовать, — сказал Мартышка. — Не собираешься ли ты рассердиться серьезно и вызвать меня? — спросил я. — Да, я тебя вызываю. Мухи звенели на стекле. Я подождал, думая, что он разразится обычным многословием, но он молчал. — Когда же ты хочешь со мной стреляться? — спросил я. — Послезавтра. Пятнадцатого. |
||
Утром четырнадцатого, наклонившись над письменным столом, я срывал последние черешни за окном "надворного флигеля". В комнате Монго слышались голоса. Я пошел к нему. Там были Глебов с подвязанной рукой и Трубецкой. Когда я появился, они замолчали и смотрели на меня с виноватым видом. — Доброе утро, господа инвалиды, — приветствовал я их. — Этот болван всерьез хочет с тобой драться, — сообщил Трубецкой и понюхал флакон с духами Монго. — Вот Глебов — уже его секундант. — Я сперва отказался, — застенчиво улыбнулся Глебов. — Тогда он обратился к Васильчикову, тот сразу согласился, и получилось, что я поступил неблагородно, а мы живем с ним вместе, и я согласился. — Моветон, — поморщился Монго, разворачивая усы. — Дуэль на водах. Начальство узнает, зрители набегут. Сцены из "Героя нашего времени". В роли Грушницкого г-н Мартынов, в роли Печорина — автор. Глебов вздохнул и нахмурился. — Милый Глебов, — сказал я, — сродник Фебов, улыбнись! Но на Наде, Христа ради, не женись! — Мы старались уговорить его, — сказал Трубецкой. — Это невозможно. Что у вас случилось? — Ничего нового, — сказал я. — Я по-прежнему зол, он — глуп. — Он стрелять не умеет, — сказал Глебов. — Он глупый, но добрый, Мишель, ты бы перед ним извинился, а? — Я готов. — Надо его острогом пугать, — предложил Монго. — Его за дуэль в острог посадят с ворами. Он в отставке. — Не посадят, — сказал Трубецкой. — Васильчиков-папа вытянет. Мученик пять раз секундантом безнаказанно был. — Доставлю ему удовольствие, — сказал я. — Если ему неймется соблюсти честь, обменяемся с ним двумя пулями. Мальчики почувствовали облегчение, осталось обсудить детали. — Кто секунданты с твоей стороны? — спросил Глебов. — Мы с Монгой, — сказал Трубецкой. — Нельзя, — возразил я. — Ты здесь без прав живешь, а Монго уже был моим секундантом. Засудят. — Никто не узнает, — усмехнулся Трубецкой, — Все кончится дружеским ужином, Я сегодня шампанское закажу. Пистолеты есть? — У нас нет. — сказал Глебов. — у Монти есть, — вспомнил я. — Не дам, — сказал вдруг Монго. — Я коменданту донесу. — Прекрати! — крикнул я. — Хорош ты в роли доносчика! Я его уговорю перед барьером, он трус. — Он требует жесткие условия, — сказал Глебов. — Стреляться в пятнадцати шагах до трех раз, ты принимаешь? — Да, мне все равно. — Завтра в половине седьмого пополудни на склоне Машука у Перкальской скалы, — сказал Глебов. — Мы с Васильчиковым приедем на дрожках Мартынова, остальные верхом, врозь, чтоб не привлекать внимания. Да, надо врача уговорить... — Ах, оставь! — воскликнул Трубецкой. — Зачем врач? Ты еще телегу найми труп везти. Эта дуэль — пикник с шампанским, не более того, так Мартышку настраивай! — А сейчас мне пора в Железноводск, — сказал я. — Ко мне туда завтра дама приедет. — Ты успеешь? — спросил Глебов. — К половине седьмого? — Успею. Это по дороге. Монго вылез из кровати, достал из сундука ящик и подал Глебову со словами: —Ты вези. Мне противно. Глебов поднял крышку. В ящике была пара кухенрейтеров. |
||
На Английской набережной у дома Лавалей горели костры, фантастические силуэты кучеров двигались у огня, тени швейцаров с булавами были огромны. В душном зале стройные шеренги рекомендованных масок и дозволенно голых женских рук двигались в машинном регламенте. Огромность бала была неправдоподобна. Зимой сорокового года Петербург был похож на город призраков. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены, извозчики на биржах дремали под рыжыми полостями своих саней. Туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-зеленый цвет". Седой старичок с блестящей от масла головкой, с бледным длинным лицом и глазами, обведенными красной каймой, вел меня бесконечным рядом комнат. Здесь была изнанка бала, поражавшая нереальностью: комнаты шуб и спящих стоя лакеев, комнаты сотен блюд, ждущих ужина призраков, комнаты зеленого сукна, комнаты ширм уборных, комнаты сваленной горами мебели. Музыка и жужжание бала доносились глухо, здесь было пыльно и тревожно. Слуги пробегали с бешеными глазами. На подоконнике у открытого окна таял снег, лужа растекалась на узорном полу. — "И скучно и грустно, и не кому руку подать!" — сказал мой провожатый, оборачиваясь ко мне с вольтеровской улыбкой. — Неточно! Вам грустно — просите, чтобы вам подали руку. А ваша рука никому не нужна. Все у вас неточно! На горбу его плеч болтался обязательный на балах кусок шелковой материи — карикатура на венецианский плащ. Такая же тряпка —домино — висела и на моих плечах поверх мундира. — Известное вам лицо просило подождать в этой комнате, — сообщил мне таинственно старичок и ушел, шаркая в сумраке. В темном стекле окна, как в зеркале, я видел свое желтое лицо, тощие усы, светлую прядь волос над вздутым лбом и глаза, которые считались демоническими. На улице близко заржала лошадь. — У вас в России шуметь имеют право только лошади. — сказал голос с акцентом. Я обернулся — передо мной стоял Барант, хорошенький французик. — Будем говорить тихо, — продолжал он улыбаясь. — Я нарочно выбрал уединенное место... — Я к вашим услугам, мсье Барант. — Очень важно, — продолжал он. — Я здесь не как сын французского посланника, а как частное лицо, ваш знакомый. Простите, я интриговал вас, вы ждали, что придет дама? — Ждал. — отвечал я честно. — Удивительно, как у вас сходится. Вы желаете пребывать в гипохондрии и одновременно иметь успех у дам большого света. Страдаете от одиночества души — и не пропускаете ни одного бала. Нам, французам, представляется, что самое хлопотное занятие в мире —быть русским поэтом. |
||
— Вы желаете говорить о поэзии? — Об одной поэтической строфе. — О какой строфе? — Когда я приглашал вас в наше посольство и подружился с вами — я именно желал разобраться, понять. Я говорю о стихах, написанных вами на смерть Пушкина. — Господи, три года прошло! — Я нарочно просил достать мне "Смерть поэта", чтобы понять, относится ли строфа к одному Дантесу или ко всем французам вообще. Я вам напомню: "... Пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет. И что за диво; издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов заброшен к нам по воле рока". — Ну и что? — Неправда, что вы вспоминаете с таким трудом. Если б не "Погиб поэт, невольник чести", вы пребывали бы в полной безвестности. Стихи распространялись — и вышел беспорядок, а в империи, где общественный порядок основан на гнете, всякий беспорядок рождает мучеников и героев. В вас увидели борца за свободу лишь потому, что вы были высланы на Кавказ. — Остроумно, — сказал я, — что дальше? — Мне передали, что вы говорили обо мне так же презрительно, как писали о Дантесе. — Я никому не говорил о вас предосудительного. — Смеясь над нами, — продолжал француз, — вы выражаете свой русский патриотизм. Это удивительно! Как патриотизм русских соединяется с любовью к свободе?! — Любовь к родине — не есть любовь к империи, — сказал я. — Не вижу разницы. Если переданные мне сплетни справедливы, вы поступили весьма дурно! — Я ни советов, ни выговоров ваших не принимаю, — сказал я, глядя, как тает на паркете снег. — И нахожу поведение ваше смешным и дерзким. — Вы слишком пользуетесь тем, что мы в стране, где дуэль запрещена, — сказал европейский юноша. — Поверьте, — отвечал я, — в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и мы, русские, меньше других позволяем оскорблять себя безнаказанно. — Нам-то кажется, что вы слишком терпеливы, — сказал он, любуясь собой. |
||
Тут я кукарекнул петухом. Он вздернул голову в презрительном недоумении. — Петух пропел,— объяснил я. — Полночь. Вам пора исчезнуть. — Насмешка — оружие тиранов и рабов, — сказал он чужие слова. — Я жду ваших секундантов. На плече его была такая же маскарадная тряпка, как у меня. |
||
Утром восемнадцатого февраля мы с Монгой ехали по Парголовской дороге к Черной речке. Монго держал на коленях ящик с кухенрейтерами. Шел мокрый снег. — Ты все хочешь, как Пушкин, — ворчал Монго. — Даже дуэль на Черной речке, но не выйдет, как у Пушкина. Когда Пушкина пристрелили, государь помог его семейству деньгами. А тебе не поможет, да и семейства у тебя нет — одна бабушка. Пушкина все любили, а ты — бельмо на глазу. С усов его капала вода. — И не убьют тебя, — говорил Монго. — А за дуэль на Кавказ опять вышлют. И меня с тобой. Как человек благородный, я не могу отказаться быть твоим секундантом. И донести не могу. Сани остановились. Противник был уже на месте. Монго с ящиком под мышкой слез с саней и сразу провалился по пояс в снег. Я развеселился. Барант представил секунданта: — Мой секундант барон д'Андрэ. Я сказал: — Мой двоюродный дядя Столыпин. Французы переглянулись. Лицо юного Баранта выразило отвращение. — Не надо, Мишель, — сказал Монго. — Дуэль — дело серьезное. И, точно, он, как только мы сошлись с противниками, стал вести себя чрезвычайно деятельно и торжественно. Он подал д'Андрэ ящик. — Мосье де Барант как лицо оскорбленное имеет право выбирать оружие и выбирает шпагу, — сказал д'Андрэ, — Я не маркиз восемнадцатого века, чтобы фехтовать, — возразил я. — Помолчи, — велел Монго и обратился к французам: — Но мосье Лермонтов, может быть, не дерется на шпагах? — Как же это офицер не умеет владеть своим оружием? — язвительно заметил д'Андрэ. — Его оружие сабля как кавалерийского офицера, — отвечал вежливый Монго. — И, если уж вы того хотите, то Лермонтов будет драться с вами на саблях. Но у нас в России не привыкли употреблять это оружие в дуэлях, а дерутся на пистолетах, которые вернее и решительнее кончают дело. — Я начинаю замерзать, — сказал я. — Мы настаиваем на шпагах, — заявил д'Андрэ, посовещавшись с Барантом. — Как угодно только скорее! — воскликнул я. Секунданты принялись утаптывать снег. Дело это оказалось безнадежное — снег не уминался, а только чавкал под ногами. Тем временем Барант сбросил шинель, снял сюртук, расстегнул воротник и засучил рукава рубахи. Поглядев на меня, д'Андрэ шепнул что-то Монго. — Мишель, раздевайся! — крикнул Монго, прыгая в снегу. — Господа, мы. неминуемо простудимся, — сказал я с искренним удивлением. — Не будем превращать дело чести в комедию! — прокричал д'Андрэ. — Извольте драться по правилам! Я покорно разделся и стоял, обхватив себя руками. Д'Андрэ подал нам шпаги. Барант принялся выделывать гимнастические движения и выпады, чтобы разогреться. ЯЯ стал писать шпагой по снегу. ДАндрэ увидел первые буквы, и брови его полезли на лоб. Монго поспешил затоптать. — Однако пора начинать, — сказал он и отошел, скрестив руки на груди. Мы стали по колено в мокром снегу и начали. Дело не клеилось. Француз нападал вяло, я не нападал, но и не поддавался. Монго продрог и бесился. Барант убедился, что я плохо владею шпагой и старался меня убить. Он сделал ловкий выпад, шпага оцарапала мне грудь и руку ниже локтя. Я захотел тоже проткнуть ему руку, но попал в самую его рукоятку, и моя шпага лопнула. Секунданты подошли и остановили нас. — Вот кровь! — объявил Монго, показывая на мои царапины. — Вы удовлетворены? — Вполне, — отвечал Барант. Тут меня бес толкнул. — А я — нет! — заявил я. — И требую продолжения дуэли по-русски — на пистолетах! Барант сказал: — Извольте. Секунданты совещались. Я поспешно одевался. Барант остался в рубашке. Он сильно волновался. Деревья вокруг нас были, как огромные сугробы — столько снегу налипло на их ветви. — Мосье, вы будете стрелять по счету, вместе, — объявил Монго. По слову "раз" — приготовиться, по слову "два" — целить, "три" — выстрелить. Нас поставили в двадцати шагах. Секунданты зарядили кухенрейтеры. Д'Андрэ подал пистолет мне, Монго — Баранту. — Раз! — скомандовал Монго. Мы стояли с поднятыми пистолетами. Я видел, как француз трусит. — Два! Барант вытянул руку и стал целить мне в лоб. |
||
|
||
Утром 15 июля майор Пушкин постучал в мое окно. Ужасно и смешно было видеть его такое похожее и такое другое лицо. — Привез? — крикнул я. — Да, да! — Он замахал руками. Я выскочил к нему на улицу. Мы побежали к роще. Погода была великолепная. Железноводск — совсем деревня, он мал и безлюден, роща подымается по склону горы Железной. Скалы, колючие кусты и вольно растущие деревья являют картины дикой природы. Похожий Пушкин был, как всегда, быстр и суетлив. — Она с теткой в коляске, — докладывал он скороговоркой, — мы верхом с Бенкендорфом, и Дмитревский приехал — вице-губернатор Кавказа — за двенадцать верст отвлекать дуру-тетку, пока ты будешь любезничать! Ты нам должен за это ужин у Найтаки! Только объясни мне, ради бога, зачем тебе эта бедная девочка? — А вдруг, Левушка, вдруг? — Что "вдруг"? — Женюсь. — Ты?! — Твой брат женился. — Так он же ее любил... А ты кого в этом мире любишь? Все ждали нас в коляске. Тетушка мне обрадовалась. Катя смутилась. — Мишель, скажите мне, какие болезни здесь лечат? — спрашивала тетушка. Мы гуляли в роще. — Я вам скажу. Во-первых, желудочные: гастриты, несварение, — болтал Пушкин. Они увели тетушку вперед. Со всеми я был весел, но, оставшись вдвоем с Катей, напустил на себя вид таинственный и печальный. — Вы приехали... Спасибо вам, — шептал я. — Отчего вы так грустны? — спрашивала она с участием. Мы ходили под руку. — У меня ужасное предчувствие, — врал я, решив больше не откладывать на потом. — Я знаю, о чем вы думаете, — сказала она. — Об этой глупой гадалке? — Предсказание судьбы меня не пугает, — говорил я, прижимая ее локоть. — Жизнь мне ужасно надоела... Она хотела освободиться, поглядывая на тетушку, и, когда тетушку увели за поворот аллеи, совсем испугалась. — Кузен, что вы так на меня смотрите? — спрашивала она. Я увлек ее в сторону с аллеи. — Куда мы идем? — лепетала Катенька. Я поцеловал ее. — Не надо, — просила она. — Как вы похожи, как похожи! — говорил я. Она озадаченно молчала и позволяла обнимать себя. Коса ее распустилась, бандо свалилось, я подхватил его и спрятал в карман. — Катя, Катя, — шептал я быстро и целовал ее. — Никуда я сегодня не поеду... |
||
— Что? Вы должны ехать? Я опять поцеловал ее, она уже отвечала мне и спрашивала с серьезным видом? — Кузен, вы любите меня? Кустарник сомкнул вокруг нас темную блестящую листву. Катенька подвязывала косу и смеялась, отворачивая губы. — Убежим от них! — просил я. — Куда? — Катенька, если б вы знали, — шептал я, — как много зависит от одного вашего слова... — Вы опять придумываете! — отвечала она и снова смеялась. — Катя, ау! — звала тетка. — Ну вот... — сказала Катенька и кинулась мне на шею. Мы возвращались из Железноводска: Катенька и Обыденная в коляске, мы — верхом. Я заставил Черкеса танцевать лезгинку. Катя гордо поглядывала на меня. — Мы будем обедать в колонке, — сказала она. На перекрестке колонки под навесом стояла пушка и боевой ящик. Казак, приложив ладонь к глазам, смотрел на небо. Со стороны Пятигорска надвигалась туча. — Дождик будет, — сказала Катя. Мы вошли в чистенький домик. — Гутен таг, милейшая Анна Ивановна! — Добро пошалофать! — кланялась хозяйка-немка. — Милле! Гретхен! Бистро, бистро! Две молоденькие прислужницы стелили крахмальную; скатерть, носили мильх и бутерброды. За кустами акации два пехотных офицера стерегли их на дворе. Когда девицы выбегали на кухню, со двора слышались визг и хихиканье. — Кушайте, кушайте, фсе сфежее, — улыбалась хозяйка. В туче над Пятигорском сверкнула молния. Пушкин, болтавший беспрестанно, умолк. Предгрозовая тишина сковала воздух. Тетушка обмахивалась веером. — Который час? — спросил я. — Пять часов, — сказал Пушкин. — Куда ты собрался? Я стал прощаться. — Кузина, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни. Туча надвигалась как беда. Тоска сжала сердце. Ожидание — страшнее того, что ждет, я предпочитаю идти вперед. — Мишель, грозу надо переждать, — сказал Пушкин. — Куда вы? — смеялась Катенька. — Смотрите! Туча закрывала солнце. Я несколько раз поцеловал Катеньке руку и уехал. |
||
Казаки беспокойно расхиживали по площадкам на своих вышках. Приближалась гроза. Я погонял коня, дорога вилась между кустарниками и спускалась в овраги. Я скакал навстречу туче, ветер дул в лицо. Упали первые капли, я въехал в дождь, но это было лишь начало, предвестник ливня, обрушившегося на Пятигорск. Мартышка, Васильчиков и Глебов ждали меня на дороге. — Где Монго и Трубецкой? — спросил я у Мартышки. Он не пожелал отвечать. — Наверное, дождь задержал их, — сказал за него Васильчиков. — Будем ждать? — Надо ждать, — вздохнул Глебов, болезненно морщась и придерживая раненую руку. Васильчиков и Мартынов отъехали в сторону. Васильчиков что-то доказывал Мартышке, тот кивал головой, — Рука? — спросил я Глебова. — На погоду, — он улыбнулся, показывая, что все — нипочем. — Миша, поговори с ним. Меня он не слушает. Я подъехал к Мартынову и спросил: — Мартышка, зачем мы тут мокнем? Он повернулся ко мне спиной. — Лермонтов, есть правила, — обиженно загудел князь, — коли желаешь мириться, проси прощения, но только в присутствии своих секундантов. — Пошел ты... — сказал я мирно, — Сам пошел, — сказал он басом. — Не желает? — спросил встревожено Глебов. — Успеем помириться, — сказал я. — Это не беда, а вот беда, что надо будет отправляться в отряд, к осени пойдем в экспедицию, а из экспедиции когда вернемся? Отставки не дают. А у меня пландвух романов. — Глебов! — позвал Васильчиков. — Мы пока можем выбрать место. — Без секундантов? Нехорошо! — отозвался Глебов. — Не тяни. Баронесса! Давай скорей! — сказал я. Дождь был дрянной, как в день нашего приезда. Тропинки петляли в кустах. Мне надоело ходить. — Здесь будет хорошо, — сказал я. — Дождь в глаза бьет, видно плохо, — пробурчал Мартышка. — Станьте боком к дождю, — показал Глебов. — Так — они на уклоне, — возразил Васильчиков. — Один выше, другой ниже, — Я вниз стану, — предложил я, — мне все равно. — Господа! — крикнул Глебов. — Мы все делаем против правил! Нет секундантов Лермонтова. Нет врача, коляски, дождь идет! Так стреляться нельзя! — Почему нельзя? — опять обиделся Васильчиков. — У противников равные шансы. Пусть они решают, — Князь, ты — арбитр, — сказал я. — Можно сделать так, — предложил Васильчиков. — Глебов будет твоим секундантом, я — Мартынова, отмерим барьер, а там, глядишь, твои секунданты появятся. Глебов растерянно смотрел на него. — Отмеряйте барьер, — сказал Мартынов. Мне показалось, что он больше не сердится на меня, но говорит механически, словно исполняя чужую волю. Я улыбался, думая, как бы мне развеселить его, чтобы он проснулся. Справа черная впадина тянулась к нам с вершины Машука, словно стрела указывая нашу поляну, окаймленную кустами, слева за деревьями торчала Перкальская скала, вся в белых лишаях на местах вынутого камня. Дождь усиливался. Глебов и Васильчиков отмерили барьер в пятнадцать шагов и кинули по концам по фуражке, потом от этих шапок еще отмерили в обе стороны по десять шагов и на концах тоже поставили по шапке. В траве под потоками воды лежали две фуражки, шляпа Васильчикова и папаха Мартынова. Мы с Мартыновым стали на крайних точках. — Эй, Лермонтов, где вы? — раздался крик Монго. — Мы здесь! — отозвался Глебов. Появились Монго и Трубецкой. — Нас дождь задержал, — извинился Трубецкой. — Я вижу, зрители тоже дождя испугались? — Какие зрители? — обиделся Васильчиков. — О дуэли, кроме нас, никто не знает — Дело сделано, — сказал Монго, увидев на траве шапки. Большими шагами он прошел между шапками и отбросил ногой папаху. увеличив расстояние. Заслонившись шинелью, секунданты заряжали пистолеты. Мы с Мартыновым вдали. Впервые сегодня я видел его лицо. Он пристально смотрел на меня, словно желал, чтоб я сказал ему что-то важное. Васильчиков подал мне знакомый кухенрейтер. Глебов дал пистолет Мартышке. — Господа! стреляйте, шампанское ждет! — крикнул Трубецкой. У него и у Монги были ружья и ягдташи — в городе должны были думать, что они на охоте. — По сигналу "сходись" вы подходите к барьеру и стреляете, — объявил Васильчиков. — Я готов просить прощения, — сказал я. Мартышка покачал лысой головой. Белая одежда его промокла и почернела. — Сходитесь! — сказал Васильчиков. Мы сошлись к барьеру. — А может, лучше — на кинжалах? — сказал я Мартышке тихо. — Стреляй! — дико крикнул он. Я выстрелил на воздух. — Вот и слава богу, — сказал Трубецкой, — теперь ты, Николай... Мартышка, подлец, зашел за барьер, приблизился ко мне и нажал курок. Я упал и увидел небо. Дождь лил мне в открытые глаза. Мартынов наклонился, заслонив бегущие в небе облака, и поцеловал меня. Я еще не умер, меня накрыли шинелью. Дом был полон звуков: звон посуды, быстрые шаги, окрик, пощечина, хлопанье дверей. 31 декабря 1835 года за окнами стыла снежная пустыня двора. Выла метель, ветер раскачивал тополя, яблони и далекие ветлы. По двору к дому черной толпой шли крестьяне. В камине пылал огонь. Масло плавилось на горячей булке, искрились желтые и розовые графины, светился мед. Тарелка перед бабушкой была пуста. Мы пили чай в гостиной за круглым столом. — Я, как деревянная, от радости, — говорила бабушка. — Ты приехал. Первый Новый год в радости! Она плакала. — Ешь, Мишенька, ешь!.. Я был корнет лейб-гвардии гусарского полка. Все было впереди. — Я послала за попом — служить благодарственный молебен. Ешь, Мишенька... Я всякий час ждала тебя, я счастлива и, истинно, мой друг, забыла все горести и со слезами благодарю бога, что он на старости лет послал в тебе мне утешение... Мужики за окном шли и шли. — ... Лошадей тройку тебе купила, и, говорят, как птицы летают, они одной породы с нашей буланой, только черный ремень на спине и черные гривы... Мы вышли из дому к церкви. Она — в двух шагах от дома, маленькая церковь Марии Египетской, в память матери. На двух тополях висела доска качелей и сугроб на ней. Пространство между церковью, домом и обрывом над прудом — невелико, и здесь в снежных горбах над клубами теснилась черная толпа мужиков, не поместившихся в церковь. Они расступились передо мной и кланялись в пояс. Сердце сжималось от звериной нищеты их одежд из шкур и бересты, от светлого привета в знакомых глазах. Они благодарили и целовали мои руки. За что? — Узнаёшь, Мишенька? — спрашивала бабушка. Я узнавал трещины морщин, провалы ртов, свет глаз. — Помнишь, малышом, этому ты велел солому на крыши дарить... — Помнишь, этот кирпич на печку просил — ты велел дать... — Помнишь, этого сечь вели, ты не пустил... Я не помнил. Крутила метель. В церкви запели. Ревели стройно басы, сливались в серебряной чистоте голоса баб. Каким чудом эти звуки родились в черной, зажатой страхом толпе? Большие кирпичи церкви были самодельные, иконы просты. — Останься с нами, Мишенька, — говорила бабушка. — Здесь тебя любят... Что тебе в Петербурге? — Я останусь, — решил я. — Мне только бы в отставку выйти. |
||
В маленькой церкви пели. Звуки были светлы и радостны. Бабушка плакала. В марте надо было ехать. — Прощай. Мишенька! Бабушка крестила воздух. — Поезжай, о нас не печалься, как-нибудь проживем, только себя береги! Наш деревянный дом и двор остались позади, тройка взлетела на плотину — влево, опять влево — на Бугор, избы, крытые соломой, дымы, черные бревна, слепые окна, лай собак... Открылось поле без конца и краю. Бренчал колокольчик, ремни скрипели, стучали копыта. Я люблю дорогу — там, в конце пути, все будет иначе, все будет иначе... Свистели полозья, мучила надежда. Снега были чисты, дорога весела. 1976 год.Червинский Александринтернет публикация --- Анна Чайка . |
||||||
copyright 1999-2002 by «ЕЖЕ» || CAM, homer, shilov || hosted by PHPClub.ru
|
||||
|
Счетчик установлен 2 августа 2000 - 1368