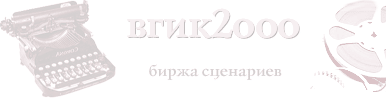
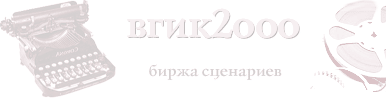 |
||||||
Мечева ОльгаВ ПРЕДДВЕРЬЕ РАЯповесть
|
||
I Вся жизнь могла бы сложиться по-иному, если бы к лету Павел не был таким безразлично уставшим. А ведь как был хорош деревенский дом, с потрескавшимися от времени торцами черных бревен. О нем можно было думать до бесконечности, и в мыслях всякий пустяк казался великим, все было создано для предстояния небесам, манило и томило душу. Кривые яблони низко над землею склоняли сучковатые ветви, терпко пахло полынью в заросшем огороде, сразу за окнами начиналось огромное поле. Оно было заброшенным и родным, как вся страна, безликим как унылые ряды панельных пятиэтажных домов, таким же сиротливым, и патетичным как музыкальная заставка программы «Время», до боли в груди знакомым. Нравится – не нравится, спи моя красавица.… Сроднился ты с этим миром, смирись и не противься , ибо только здесь ты найдешь и Родину, и вечное изгнание, и преисподнюю, и сад Эдемский. Покупая старый дом, Павел был далек от философских сентенций и вовсе не думал о высшем смысле своего приобретения. Положа руку на сердце, скажу вам, что жил он тогда во временном состоянии болезненной восприимчивости к лучшему, которое приходит к неокрепшим людям вместе с большими деньгами. Но даже Павел, при всей своей простоте, поразился неожиданному безмолвию, и тому, как покорно исчезли люди, некогда участвовавшие в сотворении этого мира. Кто-то сложил огромную добротную печь, устелил полы широкими гладко оструганными досками, обшил ажурными наличниками окна, а потом поднялся птицей в небо, описал над полем последний круг и скрылся за горизонтом. Просторы, открывающиеся взору, рождали эпические ощущения, и от того вся деревня казалась сказочной и былинной. Неслучайно именно в этих край, задолго до Павла, нашел свой уединенный покой преподобный Сергий Радонежский, и облака сегодняшние возвышенно тянулись в сторону Божественной и пряничной Лавры. «Земли любимы - небо возлюблено», - нашептывала Судьба, задумывая дать Павлу шанс, а на поверку лишь бездумно положила богатства столетий к ногам финансового координатора финской строительной компании, который носил на запястье швейцарские часы, исправно крутил педали в престижных тренажерных залах, чтобы обмануть открывающийся перед ним пятый десяток. И слепо ведомый фортуной, вопреки собственной логике, однажды он взял да и купил обветшалый старинный дом, в котором подоконники опирались на землю. Зачем купил? Теперь уже окончательно ясно, что не из-за Сергия и не из-за мещанского крыжовника. Не из-за того, что питал полуплебейские иллюзии семейной радости – мол жена в сарафане собирает ромашки, а ребенок босиком бежит через поле, зажимая в загорелой ручонке целлофановый пакет с осоловевшим бычком-карасиком.… Но, тем не менее, купил, помечтал об отдыхе, о шашлычках, о купании на речке. А год прошел, и продал… Зачем продал? Зачем купил? На землю снизошла пора немотивированных поступков. Иначе говорится, лукавый попутал. Бездумье подразумевает прозрение. Бумаги скреплены подписями и печатями, навсегда отдана связка ключей, и вот «предприниматель без образования юридического лица» гогочет в саду. Последним дураком Павел уселся в свою старую машину, которую все собирался поменять, да так и не поменял, включил было радио, но тут же опомнился и выключил. «Если в душе ты – романтик…» – Романтик, романтик…. Вот спасибо! Он ехал к бабушке, безразлично следя за дорогой. Этот день был сотворен по лукавому замыслу. Саша проснулась от яркого света, который заливал неуютную полупустую комнату. На желтом сверкающем паркете плясали солнечные зайчики. Все было стерильным и отчужденным как в платной больничной палате. Из-под скомканной белой простыни торчала загорелая и волосатая мужская нога. За просторной оконной рамой стояло сучковатое старое дерево. Старый вяз смотрел на Сашу и заламывал руки, - «Обманули тебя, милая, заманили». Саша жужжала кофемолкой, шлепала босыми ногами по прохладной плитке, кусала губы. Представить немыслимо, что совсем недавно были иными и запахи и звуки. На дворе почти круглый год стоял щемящий душу сентябрь, и можно было часами бесцельно шаркать ботинками по опавшим листьям на бульваре, питаться на ходу «горячими собаками» и быть, невзирая на возраст, девочкой-бродягой, которой принадлежат все мостовые мира и открыты все двери. Только когда она выходила из комнат, никто не оборачивал ей во след головы. Не от этого ли ненавязчивого состояния невидимки она так радостно откликнулась на приветствие, раздавшееся под аркой станции «Кропоткинская». «Ого! А я тебя бы и не узнала…» – «А я тебя узнал сразу… Ты вообще не изменилась» – «Говорят, это теперь не принято…». Итак, вся жизнь могла сложиться по-иному. Но милый друг, вернувшийся из зеленых школьных коридоров, вдруг показался таким хорошим и своевременным. О нем хотелось думать до бесконечности. Каждая деталь давно затерявшейся в памяти детской любви обретала знаковую символику, все было создано для предстояния небесам, манило и томило душу. Они пошли по бульвару, выросшие дети, объединенные тайной своего взросления, и обновленные особняки радовали взор, и радуга вставала в брызгах поливальной машины. Разговором правило дурацкое «Помнишь?», и былая истинная трагедия отроческих чувств незаметно стала подменяться мыльной оперой рассудительных отношений. Разлука-то была настоящей, горько пахли розы в осеннем парке, репродуктор на столбе надрывался бравурной музыкой. Трамваи заменяли поезда, чтобы «утро туманное, утро седое», и склянка с барием хлором выкрадена из кабинета химии. Здесь тоже вспыхнула любовь, да как-то очень правильно и слишком мило. Словно включили электрическую люстру. «Мама, ты узнаешь Олега?» – «Боже ты мой!» – «Какие они стали большие и красивые…». Дома накрывают столы, бабушка достает из шкатулки старинное колечко, и все это замечательно, прилично и красиво как в кино, только зачем она вышла за него замуж? Ведь не в память же о барии хлора и мещанском розарии. Не из-за того, что питала полуплебейские иллюзии семейной радости, мол, молодые супруги в новых тулупчиках радостно выходят из подъезда на просторы далекого микрорайона, и муж услужливо распахивает дверцу сияющего автомобильчика. На все это Саше было плевать! Но ведь женились, и целовались под свадебный марш Мендельсона, и слушали банальные тосты подвыпившей родни. И поженились же, и болтали напролет все ночи, и, сплетая тела в безумной схватке, мечтали о совместных планах. Об отдыхе, о шашлычках, о купании на речке. А год прошел, и Саше стало гадостно и пусто. Зачем она вышла за него замуж? И вот в тоже самое время, когда Павел, отгонял от себя скверные мысли и пытался сосредоточиться на дороге, Саша, с трудом сдерживая слезы, входила в грязную подмосковную электричку, до удивления неподходящую ее нарядному белому плащу и шикарным пунцовым розам. Лакированный шип порвал кружевную перчатку, до крови уколол ладонь. А кругом поля и деревни, дощатые железнодорожные мосты, театральные привокзальные домки с белыми кирпичными инкрустациями… И еще бежит электричка, виляя хвостом по полосатой дорожке рельсового полотна. Разве можно найти новые, еще не сказанные до меня слова об этой электричке, которая после длительного перерыва в расписании поездов, переполненная до отвала, словно объевшаяся гусеница, гадко выползает с вокзала. Пели о ней, рисовали ее, стихи слагали, кино снимали, смаковали как могли, и ничего уже тут не поделаешь. В ней сокрыто больше чем одна эпоха, она превратилась в кусочек вечности. Так мы, очевидно, и въедем в вечность, потряхиваемые в вагонах, перемешанные в железном гусеничном чреве, обезличенные, попахивающие копотью, мочой и чесночной колбасой. Колеса стучат, стучат, перестукиваются, а город словно и не собирается прикрывать свои владения. За окном загрязненный прохладный июнь. Мороженное съедено, пальцы смущенно комкают липкую бумажку. Серый пейзаж содрогается редкими перелесками, и неприкаянность надрывает сердце. Только не останавливайся, страшная карета, железная гусеница, она же - тройка- Русь! Пусть все мелькает за окном, не приближаясь, обманывая кажущимся уютом. Вот бы пройти по той тропинке, завернуть за угол, туда, где открывается среди холмов вид на крутолобую заброшенную церковь. А там посидеть в безмолвие на скамеечке, зажатой вековыми липами, попросить прощения, помолить о настоящей любви, о чудесной встрече. Вихрем проносится мимо деревня, и баба в сверкающих резиновых сапогах беззвучно бранится с водителем маленького завалившегося на бок автобуса. Не останавливайся! Никто тебя не простит, ничто не обещает счастья. Впрочем, Саша отвлеклась и плакать уже передумала. Ведь в конце концов, мир еще не рухнул – она просто поругалась с мужем, просто уехала в гости… Просто захотела жить так, как была создана природой, по образу Вечного Странника и Бродяги. Когда-то давно был ей шепот в грешной темноте - «Вы знаете, есть люди, надежные как земля, к ним прирастают, есть люди возвышенные, как небо, к ним тянутся, а Вы – река, Вы просто протекаете мимо, можно попасть в Ваши воды, но никто не успеет за Вашим течением…». Тогда она легко била об пол сердца как хрустальные бокалы, а от горестной страсти у троллейбусов под окнами слетали провода. Сейчас ей как никогда хотелось почувствовать себя рекою, будто прошедшие годы ничего в ней не изменили, и по-прежнему она готова предпочесть прелюбодеяние любви и чужие дома семейному очагу. Вот и в этом поселке у подружки она проводила свои отроческие годы, здесь они тайком пили пиво на берегах огромного заросшего пруда, ходили парами в дачные кинотеатры, где смотрели трофейные черно-белые фильмы. А еще родители ставили их с подружкой на стол, прямо посреди шашлычных тарелок и сосновых игл, и они хором, воображая себя сестрами Цветаевыми, читали Сашины ужасные отроческие стихи… «В глубине смородинной аллеи – голоса бессонных вещих птиц, и цикад немыслимые трели задрожат на кончиках ресниц». Сейчас она вернется к этим воспоминаниям, позволит себе покачаться на их теплых розовых волнах. Но как же все изменилось! Недаром прошло пятнадцать лет. Как разрослись деревья, как перестроили разбогатевшие люди старорежимные профессорские дачи, даже улицы по-новому расчертили поселок. И почему-то пруд на этой стороне… Странные мысли закружились вокруг Саши, но они показались ей такими бредовыми, что она попыталась от них отмахнуться, и знай себе, быстро летела вглубь поселка, утопая в гравии острыми каблуками. |
||
II Павел не научился быть домовладельцем, потому что дача уже была. Фамильная, самодостаточная, с годами готовая отойти в его безраздельную собственность. Но до сих пор казалось, что не семья владела ею, а сам огромный старинный дом, и участок, границы которого терялись среди соснового леса, владычествовали над судьбами хозяев. Здесь мир был по-своему неизменным и неподвластным времени. На даче умерла ветхозаветная бабушка Нехама выпестовавшая под покровом ортодоксального иудаизма дюжину неистовых революционеров. Здесь в последний раз собрались они все вместе совершить обряд своих предков, и, отсюда Нехаму увезли в Малаховку на еврейское кладбище. Потом прямо к даче подъехал «воронок», и младшую из дочерей – Дору вместе с русским мужем Иваном забрали в Лубянские подвалы. И тогда кто-то страшный завладел домом, зловещая тишина нависла над дачными лужайками, смерть дыхнула в самые окна. Старший Дорин сын, Павлуша отсюда уходил на фронт, правда уже из маленького флигеля, прилепившегося к забору, где подслеповатая Мирра, обиженная природой, но отчего-то помилованная палачами, проводила последнее лето с сироткой-племянницей. Страшный вихрь пронесся над домом, разметал семью без остатка. Сгорели в крематориях нацистских лагерей бесчисленные родственники. В лагерях и на Беломорском канале добили дюжину неистовых революционеров. Павел погиб, защищая Москву. Умерла в эвакуации Мирра. Но все также переминались вдали участка с ноги на ногу розоватые сосны, также зацветала возле веранды разросшаяся персидская сирень, и красные ядовитые ягоды ландышей мерцали в моховой перине возле дощатого туалета, и ветер нашептывал слова своей собственной молитвы. Темнела от времени обивка дома, трескалась белая краска на многостворчатых оконных переплетах, подгнивали ступеньки крыльца, однако неведомая логика жизни брала свое. И подобно тому, как оживали весною омертвевшие голые прутья жасмина, возрождалась плоть дома. Стучали топоры плотников, пахло олифой, ложились на землю золотистые опилки. Павел был начинен историческими анекдотами как фаршированная рыба, и, подобно той самой рыбе, давно утратил интерес к собственной начинке. Когда-то в первой молодости фамильные истории страшно давили на его психику, и не сформировавшееся «эго» прогибалось под тяжестью чужих десятилетий. Механизм воспроизводства и богоизбранности был страшен в своем совершенстве – одиозного «некто» расстреляли вместе с Берия, в пятидесятых из лагерей вернулась белая как лунь, но не сломленная духом Дора и на волне политической «оттепели» мгновенно обрела популярность, работу, деньги, друзей и поклонников. Леночка, уже вовсе не сиротка, как-то сама собой превратилась в юную красавицу и при первой же возможности вышла замуж за преуспевающего молодого журналиста. Стоит ли говорить, что когда в пятьдесят восьмом году, пришла пора рожать, схватки застали ее врасплох именно на даче, и наш герой появился на свет в замызганной Малаховской больнице, неподалеку от последнего приюта прабабушки Нехамы. Вот и владычествовала дача над его судьбой уже в четвертом поколении, и, не потерпев конкуренции, сожрала в мечтах Павла романтичный деревенский домик и вместо того пасторального мира, который он пытался соорудить на Сергиевских землях, навязывала ему собственное, бредовое и непостижимое. Павел затормозил, втиснув машину между соснами, и огляделся. Жизнь била ключом. Распахнутая дверь, толпа народа внутри дома и уличный столик развалился на ворох объедков. - Это Павлик! – кричали на веранде. Бабушка в кругу бородатых мужчин в длиннополых сюртуках и черных шляпах любовно объявила: - Мой внук. Павлу пришлось изобразить учтивость и поклониться. Бабушкины друзья выпучили на него маслянистые глаза и закивали головами. - Иди, покушай рыбки, - предложила Дора. В одной из комнат потолок был разбит на клеточки разноцветными рейками, и в детстве Павел перед сном любил поразмышлять, как пригодились бы ему эти рейки, будь у него возможность отодрать их с потолка. А внизу также шумели голоса и так же раздражали. Тогда ему еще было неуютно из-за того, что на даче с ним в одной комнате спали родители, и на спинке стула висели их большие вещи… Почему-то именно в этой комнате он сделал предложение своей первой жене… - Ну послушайте, - втолковывала внизу Дора. – Я знаю прекрасно, что там у них никакой не кибуц… - Кибуц! - Не кибуц! - Кибуц, - не унимался кто-то из бородатых. Самодостаточность дома передавалась жившим в нем вещам. Павел их почти персонально ненавидел. Словно на кладбище, здесь сходилось все отторгнутое временем. Дачу загромоздили ставшие неуместными в московском быту стулья с пропылившимися бархатными обивками, полки с потрескавшейся полировкой, диваны с убийственными пружинами, рвущимися наружу, пропитанные запахом чужих тел, кресла с отлетающими подлокотниками, и в довершение интерьера несуразное количество письменных столов. В их выдвижных ящиках десятилетиями пылились монетки, превратившиеся в достояние истории, заржавевшие бритвенные лезвия, огрызки химических карандашей и расписания давно ушедших электричек. От времени все приобрело специфический запах тлена и тщеты всего сущего, так должно быть пахнет саван в чулане запасливого могильщика… Воображение наделяет уходящие эпохи неприятными запахами. Потом и кровью пахнет Древний Рим, нечистотами и смрадом гниющих тел – Средневековье, сладковатой рисовой пудрой, гильотиной и похотью пахнет буржуазная Франция, самогоном и табаком – революция в России. Дача была пропитана затхлостью застойных времен. Этот запах преследовал Павла детским кошмаром. То ли сон, то ли былое… Он маленький с промокшими ногами хочет бежать встречать папу на станцию. Уже страшно от необратимости свершившихся перемен. Да было ли такое? Как выглядел папа, привозил ли он тогда Павлуше подарки, обещал ли сходить в сумерках на пруд? И бежал ли навстречу ему ребенок, бросался ли на шею, болтал ли взахлеб о важных дачных делах? Ничего этого Павел не помнил. Другой ребенок и другой папа случайно попали в его воспоминания. Картинка памяти неяркая, потому что в угловой комнате не было окна… Скрипит рассохшаяся дверца шкафа, взвизгивает ржавая петля, мальчик тянет за знакомый уголок свитера и вдруг на него сыпется куча душного от нафталина тряпья – чужие брюки, кофты и носки, один из которых свернулся в трубочку словно отрубленная ножка. Он откатывается в сторону, и ужас сковывает ребенка. Горло сжимается в спазме… Крикнуть бы, заорать, но ничего не получается. Отрубленная ножка начинает шевелится. Но все уходит. И очарование новизны становится стариною. Вот тостер, который когда-то уже сам Павел привез из социалистической Восточной Германии, тускнеет и сливается со старинной швейной машинкой фабрики Зингер… И яркий Новогодний плакат напоминает о студенческой вечеринке. «С Новым годом!» А в ответ эхо повторяет много-много раз, так они и проходят эти новые года один за другим. Стареют и ржавеют вместе с тостером. Впрочем надо отдать должное уважение спокойному характеру нашего героя, его невозмутимому и практическому уму финансового координатора. Те мелочи, о которых вздыхал и коими томился старый дом, не надрывали его воображение. Павел отмечал, что происходит, хмурился и занимался своими делами. Жена любила упрекать его в неразвитости чувств, мол, холоден и сух. На это он предпочитал отмалчиваться, пусть … На кухне, где Дорина приживалка, жарила рыбу, царил несусветный, чудовищный беспорядок, воплотивший худшие черты национального сожительства евреев и русских. Ножи, замыслом Доры разделенные на мясные и молочные, были кое-как свалены в единую кучу в мойке, и ручки белые и красные были заляпаны до одинакового серовато желтого цвета. Кошерные столики были хаотично завалены банками с объедками, блюдцами с окурками, яркими Израильскими консервными жестянками, надорванными пачками макарон. Мечущаяся по кухне Лея, сжалась под взглядом Павла и силилась улыбнуться. Беда заключалась в том, что Дора очень плохо видела, но стоически отказывалась признавать за собою эту слабость, а синагогальное окружение беззастенчиво этой слабостью пользовалось. Беженка Лея справедливо побаивалась Пашиного гнева, потому что была по-своему не глупа - ибо далеко не все евреи, бежавшие из Баку, с таким комфортом устроили свою жизнь в столице - а может быть, даже знала, как одного непотребного родственника Павлик, слегка захмелевший в разгар семейного застолья, взял, да и запросто спустил с лестницы, вышвырнув из подъезда за шиворот на примятый дворовый снежок. Во след – тулупчик, шарф да шапка. Но такое на него накатывало очень редко, а в последнее время и вовсе ушло в историю. Павел получал нервную разрядку от погружения в монотонный будничный процесс. Неважно какой, труд вносил успокоение, и любая размеренная деятельность заполняла болезненную пустоту, которая образуется в человеке от безысходности, когда ничего нельзя изменить. Организовывать крестовые походы на собственной даче он не собирался, поэтому, скривив лицо в жалкой гримасе, должной изображать улыбку, он максимально вежливо отказался от вонючей рыбки и, вытащив из-под лестницы ящик с инструментами, отправился к забору. Из туалета в дом важно шествовал скорбный раввин, а на встречу ему из дома доносились вопли: «Волонтер – это душа хеседа!». |
||
III Через час Саша поняла, что она безнадежно и по-идиотски заблудилась. Туда, куда занесло ее собственное упрямство, не было видно ни души, и лишь сплошными рядами стояли непроглядные заборы, где-то надрывались цепные псы. В таких уголках земли полагается прятаться шайкам разбдойников, и насильник, как и положено, возник бесшумно и вдруг. Воздвигся над Сашей. Вылез из-за глухого забора, в руках молоток, мир сокрыт душистой сиренью, улица делает последний поворот. Полнеба закрыла черная туча, ворон каркнул в вершинах деревьев. «Никогда!» - Боже мой! – сказал насильник, - что Вы так заорали? - От страха. Он был ужасно несимпатичен. Глазки маленькие, сам небрит. С мясистым носом, с редкими волосами, большой и грузный. - Ну, уж извините, - и усмехнувшись, он стал исчезать в сиреневых зарослях. - - Подождите, - испугалась Саша еще раз. Черт с ним! Обычный человек в зеленом свитере подле зеленого забора, собрался чинить молотком почтовый ящик. Ждет писем, а значит, ничто человеческое ему не чуждо. Темнело с угрожающей быстротой, ветер нес по улице какую-то пыль. Насильник обернулся. - Я заблудилась. - Где? - он непритворно удивился. - Здесь … мне нужна улица Тараса Шевченко… Он весело рассмеялся каким-то дробным тоненьким звуком и очень дружелюбно сказал, облокачиваясь на калитку. - А тут таких улиц нету… От такой несвоевременной фамильярности и от вида навалившейся на забор фигуры неприятного незнакомца Саша невыносимо затосковала. Бывают такие ситуации, которые вызывают мгновенную скорбь – ясно, что тебе не хватает места на этой земле. Не достается супа, не говоря уже о пирожном. Поссориться с мужем без слов и упреков, сбежать из дома и тут же не приходя в сознание заблудиться в чужом поселке, испугаться добродушного толстого мужика, повизжать от ужаса, броситься вослед своим мечтам, и стоя, под надвигающейся черной грозовой тучей, в проеме чужих ворот, принимать на себя чужие, расточаемые почем зря улыбки… Небо совсем почернело, и тут же в глубине участка тепло засветились окна большого дома. Всполохи приближающихся зарниц окрашивали небо в причудливые театральные тона. Нет дома под Лаврой, нет как не было, продан равнодушным деловым людям, бабушка Дора спорит с раввинами, а он разглядывает видение, на последок свалившееся на его голову – растерянную маленькую женщину с букетом пунцовых роз и в ослепительном белом плаще. - Нет, и нет абсолютно точно… Я как бы здешний и знаю. Маленькая женщина беспомощно посмотрела назад, туда, где улица, почти целиком растворившаяся во мраке, скрывала истинную цель. - Я сошла на станции из последнего вагона, - и Саша стала смотреть ему прямо в глаза. Никогда не разговаривайте с незнакомцем? Так кажется? О, нет! Разговаривать, как раз, можно, главное - никогда не смотрите прямо в глаза. Этот взгляд душа в душу разрушает естественные границы каждого человеческого «я», превышает дозволенное в общении. Такими взглядами не размениваются, ибо последствия бывают непредсказуемы и велики. Человек с молотком тоже смотрел Саше прямо в глаза, своими карими глазами, в грозовых сумерках, отливающих коньячным цветом. В принципе он был не так уж и противен, а гроза наступала, и путь навеки потерян, и за его широкой спиной теплый дом, и у него глаза коньячного цвета, можно и согрешить сгоряча… Все это пронеслось в Сашиной голове смутно и скоротечно. Ей так же на миг показалось, что она ощущает на себе тяжесть его тела, и тяжесть эта ей хорошо знакома. Так же быстро успела она подумать, что надо бы ей смываться, и эта неуловимая мысль умчалась вослед первой, ибо опять же – где эта улица, где этот дом. Куда ей деться, маленькой потерянной в грозовом преддверье? И так вот глядя в коньячные глаза, она продолжала лепетать что-то про повороты, про первый вагон, а он слишком уж молча слушал и не говорил того, что следует – «не стоять же, мол, вовек в калитке, да проходите, пожалуйста… Кто Вы такая, откуда Вы?» Ужасающий громовой раскат потряс округу. - Ничего себе, - сказал незнакомец совершенно обыкновенным голосом, - проходите скорее. - К Вам сюда? – И Саша попыталась вновь разыграть свою роль как положено. Что-то о приближающейся ночи, о потерянной дороге… За год супружества она все-таки изрядно одичала. - Скорее, мы же вымокнем… Дождь обрушился стеною и за те несколько секунд, что они бежали по тропинке, Сашин плащ намок и отяжелел. Они влетели во флигель, Саша растерянно оглянулась на большой дом, где в светящихся окнах мелькали черные тени… Неожиданный поворот. Значит насилие неизбежно? - Это похоже на какое-то кино. Веселье в барском доме…Вы тут что - сторожем служите? Он неопределенно и будто бы раздраженно хмыкнул. - Располагайтесь пока… Саша подумала, что угадала верно. Беснующаяся ливнем темнота вдруг издала многократно членораздельное – «Павлик! Павлик!» И незнакомец быстро и бодро откликнулся: - Иду!!! – ссутулившись, он набросил на плечи какую-то ветошь и нырнул за дверь. Уставшая от единомышленников, бабушка Дора, восстанавливала силы в маленькой угловой комнатушке, единственной, которую щадили бесцеремонные гости. Она трогательно умещался в ямке продавленного кроватного матраса, и полулежала, обложенная подушками, подушечками и пледами. Глаза у бабушки Доры как всегда были удивительно ясные и ярко голубые. - Садись, - кивнула она Павлу, и ему пришлось опуститься на обесцвеченный от времени венский стул, хрестоматийно ахнувший под тяжестью его тела. - Итак, он грустный, желчный и небритый, - подытожила Дора. Вытянув из-под вороха платков свою высохшую маленькую руку, она потянулась к внуку. Павел сделал над собой еще одно усилие, неудобно склонившись вперед, и Дора скребнула его ладонью по щеке. - Приехал навестить старую бабку. И оказалось, что даже у столетней жизнь бьет ключом. И ты никому не нужен… - Да ты что, - укоризненно сказал Павел. – Я рад, что тебе не скучно… - Мне, дружок, никогда не было ни грустно, ни скучно. Я страдала, сердилась. Он понимающе покивал. Не было ни малейшего желания рассказывать бабушке о своих проблемах. - Я знаю, что ты обо всем думаешь… - Обо всем? – усмехнулся Павел. – Ну это уж слишком, я обо всем может быть и вовсе не думаю… - Вы говорите, что время проходит? На самом деле время стоит, проходите Вы! Так говорил, знаешь кто? Рабби Ицхак из Кельма, и было это еще в прошлом веке…- голос прервался. Теперь длинные фразы давались Доре с трудом. На желтом восковом лице проступили красно-синие паутинки сосудов. «Не дай мне Бог дожить до такой старости», - с ужасом подумал Павел. - Я тоже долго думала, как все меняется, как стремительно и необратимо время идет вперед. И лишь в девяносто девять лет поняла, как оно на самом деле… |
||
IY Такого ливня еще не бывало на свете. Небеса разверзлись и прокляли человечество. Пятачок притоптанной травы под окнами и кусты жасмина окрашивались под вспышками молний то в мертвенно-белый, то в светящийся неоновый цвета. Вихрь кружил скомканные лепестки, вокруг хрустели ветви, дрожало и грохотало кровельное железо. Это был страшный сон. «Мама, накрой мне ножки! Я боюсь лунного гнома!» Наверное, с самого утра, когда Саша только определяла свои планы, реальности не было – ей приснилась и электричка, и улицы, заплетенные в магический круг, и неуловимый насильник, и крик ворона. Теперь ей снится бездна, раскрывшаяся прямо под ногами свою черную пасть. И словно во сне сжигают страх и любопытство. Прыгай! Прыгай же! Саша не могла оторвать взгляда от окна, не могла пошевелиться. Привратник не возвращался, тьма поглотила его, словно и не было вовсе молотка в руках у почтового ящика. Наваждение. Лишь где-то кричали на разные лады голоса, и тоскливо подвывала сигнализация автомобиля. Вдруг он появился в дверном проеме, весело блестя глазами. - Ничего себе! Погодка-то? - Я думала, Вы сгинули во мраке, утонули. - Да вроде того, - веселился привратник. – Держите вот это, я кое-что из большого дома прихватил, чтобы мы тут как-то продержались. Он протянул Саше какие пакеты и тарелки, сложенные друг в друга. Так просто и незатейливо, словно подразумевалось что она сюда в гости приехала, чайку попить. И ей пришлось взять в руки что-то тяжелое и громоздкое, а насильник весело суетился, снимая промокший плащ. - Знаете, - разглагольствовал он с видимым удовольствием, - я понял, что с вами произошло. Вы, выйдя из последнего вагона, повернулись лицом к первому, а потом уже - направо. Так многие делают.. Вот, - и он подошел к Саше и склонился над нею, потому что был очень высоким. Саша отвела глаза. - Вы хотите сказать, что приезжая в этот поселок люди крутятся на одном месте? - Вроде того.. Опять вспыхнуло небо, и жутко загрохотало, а потом с удвоенной силой забарабанило по крыше и подоконнику. Стало темно до неприличия, комната привратницкого дома заполнилась бесформенными мрачными глыбами. Вот сейчас и выясниться, готова ли Сашенька вновь стать рекою. Еще не поздно объясниться, убежать, спастись, вернуться в сверкающие белые палаты к своей тоске. - Меня зовут Павел, – вдруг сказал возившийся в темноте мужчина. – Это вообще моя дача, а в большом доме куча странных бабушкиных гостей, которые вряд ли Вас обрадуют. Поэтому мы тут посидим, дождь когда-нибудь кончится, и я отвезу Вас на эту самую улицу Тараса Шевченко. Так что не бойтесь… Вот и разъяснилось. Мужчина по местному обычаю обернулся вокруг себя и вновь обратился. Насильник в привратника, привратник – в обывателя с бабушкой… - Некая проблема в том, - продолжал Павел устраивая что-то на столе, - что провода здесь очень ненадежные и я боюсь, что при такой грозе лучше не зажигать электричество… Где-то должны быть свечи.. Саша заметила, что у привратника очень неровный голос, местами глубокий и бархатистый, а то вдруг срывающийся на фальцет, как будто он нервничает. - А Вы-то чего так волнуетесь? Павел замер и изумленно посмотрел на маленькую женщину, о которой он как-то по-настоящему еще и не успел подумать. Она так и не присела, а торчала посреди комнатенки как приведение в своем белом плаще, страшно перепуганная и зажатая. «Вот черт побери!» – подумал Павел и постарался быть максимально вежливым. - Знаете что, снимайте, наконец, свое тряпье, садитесь, я принес термос с кипятком, мы будем пить чай, съедим по бутерброду. Вас я не съем. Садитесь, - последнее он повторил почти нежно, и Саша увидела в темноте его широкую улыбку. Бежать из привратницкой было бесполезно, силы стихий уже пришли в движение, проснулась древняя энергия спящих вулканов. В комнате запахло серой, хотя это всего лишь Павел зажег свечу. Без плаща незнакомка оказалась не такой уж маленькой и жалкой, и из привидения превратилась во вполне осязаемую женщину, чересчур реальную, весьма красивую и настолько женственную, что Павел на мгновение быстро пожалел – зачем она здесь. Громовые раскаты становились все отдаленнее, а всполохи длиннее и мягче. Комнатка вспыхивала и угасала, а на столе ровно трепетала старенькая стеариновая свечка, нежный свет которой ложился на женскую фигуру и обозначал слишком большой треугольный вырез ее облегающего платья, такого неуместного в здешней обстановке. На столе оказались тарелки с разложенными кусочками рыбы и овощей, крупно нарезанный хлеб, баночка растворимого кофе. Человек по имени Павел сидел, откинув голову назад и прикрыв глаза. Он принадлежал лишь своему прожитому дню, в котором он едва ли по-настоящему заметил ее, Сашино присутствие. И тут хулиганская мысль мгновенно заразила Сашино воображение – раскрутить, обворожить, очаровать, быстро влюбить в себя, завести роман. Внутри у нее все сжалось в холодный комок как перед прыжком в воду… Вот и еще один поворот вокруг себя за вечер, - одинокий, усталый, богатый, спокойный, большой и симпатичный мужчина, насыпает ложечкой растворимый кофе в чашку. Руки у него были смуглые и изящные. Кольца обручального нет. Ворота нараспашку, заводи коней! Но он молчал, и казалось, мог молчать целую вечность, словно не сам так веселился несколько минут назад. - У вас прекрасная дача, - выбрала она традиционную завязку. - Хлопотно все это, - легко и быстро отозвался Павел, - никто же ничего не хочет делать. Им бы шашлычки да водочку… - А что еще нужно для счастливой дачной жизни? - Да вообще-то ничего не нужно, по большому счету, мало что изменится – ну крыша обвалится. Ну крыльцо сгниет.. - А Вы в этом смысле. Я думала что-то про огород и поливку огурцов.. - Нет, спасибо, это уже слишком… Теперь получилось рассмеяться вдвоем, и ободренная Саша продолжила: - Я тоже ненавижу все эти редиски… - Против редиски я ничего не имею, - опять отстранился Павел. Сквозь ровный шум дождя с улицы во флигелек доносились странные звуки, перекрывающие гул непогоды, постепенно они сливались в Сашином восприятие в слаженное хоровое пение, к которому она долго машинально прислушивалась, и вдруг в образовавшейся паузе тишины явственно грохнуло многоголосое – «Хава, Нагира, Хава…». Павел расхохотался. - Что это? Павел заразительно хохотал, и Саша сама стала расплываться в улыбке. - Ну, пожалуйста, что это? - Это уже совсем, - давясь от смеха, выдавил Павел. - Да ну вас, - Саша подошла к дверям и решительно выглянула на улицу. На освещенной террасе большого дома кружились хороводом черные силуэты в шляпах, там пели и хлопали в ладоши. Ровной стеной шумел равнодушный сильный дождь. Павел подошел и встал сзади, так что теперь Саша могла слышать легкий запах его одеколона, сигарет и чувствовала его дыхание. Она уже была влюблена. Когда-то это уже случалось, и Саша скорбно предчувствовала долгую маяту и тщету своих переживаний. Она неизлечимо страдала любовной клептоманией, когда удел - влюбляться в недоступность и в чужое. Скрываясь от этой болезни, она вышла замуж за Олега, и вот быстрые воды реки. Она сама за собою не может поспеть… - Итак, Вы – еврей? – спросила она, когда, налюбовавшись раввинскими плясками, они вернулись к столу. - Нет, это – бабушка. - Если бабушка – мамина мама, то Вы – еврей. - О-о-о, - недружелюбно протянул Павел, - как Вы тут сведущи… - Я бы просто очень хотела знать, что я, например, еврейка. Павел с недоумевающим видом уставился на свою гостью. - Тогда бы поиск Бога был прост и короток. Знаете, этот путь, - Саша собралась поблистать теософскими знаниями, но Павел ее достаточно резко перебил. - Не знаю! И знать не хочу. Я – совершенно нормальный человек, живущий нормальными проблемами, а что касается бабушки, то у нее была долгая, трудная жизнь, и вообще.. Ей уже сто шесть лет… и в ее возрасте случается еще и не такое.. - Вы хотите сказать, - от возмущения Саша даже на мгновение забыла о зародившемся любовном чувстве, - что обращение к духовным истокам – это синоним старческого маразма? - Знаете, - как-то слишком серьезно подбирая слова, начал объяснять Павел, - я бы не стал говорить о собственных религиозных и национальных чувствах, хотя бы потому что считаю это глубоко личным вопросом, а то, что я вынужден наблюдать с тех пор, как Дора, как Вы выразились, обратилась к духовным истокам, я и врагу не пожелаю. Одно дело, знаете, когда ты смотришь рекламу мацы по телевизору или читаешь трогательную историю жизни мальчика Мотла, смотришь рекламные проспекты Израиля. Но это – другая жизнь, ничего не имеющая с действительностью. Сейчас в Москве – это, в первую очередь, бизнес, и бизнес очень грязный, политика, и политика, как всякая политика, очень … как бы … нечистоплотная, и мода, бесспорно, поверхностная и очень недалекая… К сожалению, так сложилось, что я оказался поневоле очень близок к этим кругам из-за бабушки... Но… - тут он замолчал и посмотрел на Сашу. Слушает ли она его, интересно? - Судя по всему, Вы – жертва. Я предлагаю Вам созвать конференцию по материальным претензиям, пострадавших от евреев, пострадавших от нацизма во время второй мировой войны. Павел рассмеялся, оценив шутку, и еще раз внимательно посмотрел на свою гостью. На его вкус она была слишком активна. Павел избегал и недолюбливал женщин, в которых было много совершенств, его привлекали приглушенные тона и компенсация черт – молчаливая красавица, обаятельная дурнушка, гениальная серая мышка. С такими ему было по-настоящему уютно. У забора в своем дурацком белом плаще с розами, она казалась испуганной, глупенькой и хрупкой, а в сумерках флигеля драпировки исчезли. Саше захотелось встать, и она встала, подошла к запотевшему окошку. Там на улице было все также мокро и темно, но это уже не имело никакого значения. Здесь в привратницкой судьба тасовала свою колоду. - Бодливой корове Бог рог не дает, - сказала почему-то маленькая женщина. - Это Вы о чем? - Просто о вашей даче. У меня есть странная привычка к дежа вю. - Не понял? - Дежа вю, - медленно повторила Саша и написала пальцем на окне русскими буквами. – Когда мне хорошо, мне всегда кажется, что я здесь уже была. Хорошо представляю Вашу дачу в феврале, с остатками снега на сосновых ветвях… Тишина и полное одиночество…Блаженное уединение… - Да это только так кажется, Вы же с ума сойдете от одиночества. Здесь зимой скука замучит. - Душа не бывает одинокой, ибо…, - назидательно провещала Саша, - она таит в себе бездны. - Как Вас зовут? - Ради Бога, - Саша резко повернулась. – Давайте без имен, какая здесь разница, предположим, их у меня целая тысяча, так ли важно – Катя я, Настя, Марина, Марфуша… «Пожалуй, надо изрядно выпить», - решил Павел. - Да, - сказал он, поднимаясь со стула, - давайте без имен, без рассказов друг о друге, без богоискательств… А Саша вдруг наоборот решительно вернулась на свое место и села. - Лажа, Вас же зовут Павлом… Мне постоянно не везет во снах, - она посмотрела на исчезающие в оконной влаге слова, - Вот и мое дежа вю тает… - Вы мне голову заморочили. Говорите прямо – выпьете чего-нибудь? - Но богаты ли запасы Ваших винных погребов? Павел вышел на улицу без плаща и почти хлопнул дверью. Галиматья. |
||
Y Нелепым было продолжение их вечера. Он предложил пить неразбавленный ром, маленькими рюмочками, словно ликер или водку, а закусывать бананами и сушеными финиками как туземцы. Саша быстро пьянела и говорила глупости, которые роились в ее возбужденной голове. С каждой выпитой рюмкой рома шаткий столик качался все больше и больше, и Саша безотрывно смотрела Павлу в глаза. Как и большинству малообщительных людей, когда Павлу приходилось говорить, слова забирали у него силы и всякую приятность. А молчал он мило, почти красиво, тут Саша и захлебнулась в коньячной гавани этого взгляда. Сама она несла чудовищную ересь – что-то о случайностях, с помощью которых Бог управляет миром, о пирамиде таинства познания. Павел сидел молча, пил «Баккарди», разглядывал маленькую желтую зажигалку и периодически поднимал голову и смотрел на Сашу тяжелым недоумевающим, бесподобным взглядом. О чем он мог говорить с ней? Говорить не хотелось, молчать было глупо, он пил и вертел между пальцев бессмысленную желтую зажигалку, неприметный кусочек пластмассы, хранящий глубоко внутри огненный язычок. Вечерняя гроза перешла в ночную и покидать поселок не собиралась. - Вы как-то малореальны? – заметила Саша, – Несчастны, наверное? Ситуация требовала от Павла весьма определенных действий – ночь, женщина, свеча горела на столе. Предполагалось, что дальше он должен действовать, как заправский герой-любовник, чего ему совершенно не хотелось. Он отшвырнул зажигалку и почти с отвращением посмотрел на свою гостью. - Почему это? – грубовато спросил он, и взгляд его стал медленно погасать. – Потому что сижу спокойно во флигеле, кое-как Вас развлекаю выпивкой и не пристаю с домогательствами? Потому что не бросил под дождем? Потому что просто устал после долгого дня, и у меня нет сил вести заумные разговоры? - А что Вы сегодня делали? – бесцеремонно допрашивала она. Не хватало начать ей рассказывать, как он продал дом, как непривычно защемило на душе, когда, садясь в машину, в последний раз посмотрел на потемневшие бревна, на какое-то тщедушное деревцо, прилепившееся к крыше. Не мог же он пожаловаться сумасшедшей незнакомке, заблудившейся в трех соснах, на свою неудавшуюся семейную жизнь, на бессмысленный груз накопившихся и неиспользованных отпусков, на бесстыдных раввинов, обирающих Дору и подбирающихся и к его кошельку. - У меня все в порядке, - сухо ответил Павел, - хотя, наверное, когда у человека все в порядке или, по крайней мере, когда он так считает, пора в ящик… - Но с другой стороны, желание изменить то, что не так, и есть двигатель прогресса. Павел усмехнулся, - «На редкость оригинальная мысль», - однако сам того не замечая, заговорил в такт незнакомке. - Вы часто тянете этот рычаг на себя? - Он сам меня тянет. Это происходит по высшему плану. - Какому? – искренне поразился Павел. Все-таки к нему во флигель попала сумасшедшая, обыкновенная городская сумасшедшая, шарахающаяся мыслью из стороны в сторону. Это было так неприятно, что он даже встал и прошелся взад-вперед по маленькому пятачку комнаты, машинально взъерошив редкие волосы. - Вы с луны свалились! Вам бы в бабушкину компанию… - буркнул он. Саша с готовностью закивала головой. - Увы, мне было дано лишь пройти мимо. - Вы вообще серьезно? – Павел снова сел и попытался сосредоточиться. - Смотрите сами, - Саша обрадовалась возможности все пересказать для самой же себя, ибо привратник был не так уж и важен. – Я все утро решалась уйти из дома, потому что так сложилось, что жить утром я не могла… куда мне ехать. Мои самые верные друзья никогда бы этого не поняли, потому что он – новоиспеченный дьякон, а она теперь иконы пишет. Но у них там – благословение на трапезу, через слово «Спаси и сохрани», и объяснить, почему мне омерзителен дом и муж… - Это не мое вообще дело, - успел подстраховаться Павел. Но Саша абсолютно его не слушала, она была здорово пьяна, и ей хотелось выговориться… - Словом еще хуже, чем Вам с бабушкиными друзьями. И именно сегодня, я поняла, что просто не в силах… И религиозный пыл тут страшно далек, я сегодня скорее в наперсники выбрала другого ангела… и других друзей заодно в компанию к Люциферу… из Вашего злополучного поселка… Когда-то в детстве я здесь проводила массу времени, а тут вдруг заблудилась, как дура. Обернулась вокруг себя, как Вы мне объяснили, и потеряла знакомый путь. И вижу все иным - кусты разрослись, деревья уменьшились, и Вы с молотком. А потом гроза, которая смыла все наносное и лишнее, и «семь сорок» разносится во мраке… И Вы еще сомневаетесь в том, что это неспроста? - Ну и в чем же дело? – снисходительно спросил Павел, хотя и почувствовал, как против своей воли он заражается какой-то неясной тревогой. Она расхохоталась. - Если бы я знала дело, я бы его делала, а не болтала бы с Вами. «Может быть, дело, действительно в том, что я – бесчувственный чурбан, а любой другой бы использовал эту ситуацию однозначно просто. Всем бы было приятно, все бы были довольны, и незнакомка не искала бы высшего смысла в моем появлении с молотком у забора», - так думал Павел и тут же отчетливо понимал, что ничего подобного с ними не произойдет, что он не хочет и не может и уже почти страшится вынужденного пребывания наедине с этой женщиной. К тому же бутылка рома опустела, и по ним это было здорово заметно. - Я – нормальный человек, с простыми проблемами и своей мерой ответственности по отношению к этим проблемам, - упрямо повторял он. – С Богом у меня нет ни диалогов, ни пререкательств. - А у меня есть – и то, и другое, - похвасталась Саша. - Это называется шизофрения. И в конце тысячелетия является почти допустимой нормой, - мысленно он обругал себя за банальность. И вообще все их пребывание во флигеле можно было представить как борьбу банального и сверхъестественного. Павлу одинаково претило и первое и второе, а маленькая женщина упивалась собственной неадекватностью. - Итак, - рассуждала она, весело рассматривая Павла, как будто в первый раз, - Вы – нормальны, болезни конца тысячелетия не отягощают, богоискания не тревожат, зависимости от национальных истоков не испытываете. Вы хотя бы одиноки? Кстати, вдруг он понял, что маленькая женщина с ним вовсе не кокетничает, а просто смкаует собственные проблемы. Видимо, это его и охлаждало и замораживало всякий интерес. Она уже очевидно его не слушала, так что он даже не собирался ей отвечать… - Где-то я читала такую фразу, что для любви, мол, нужны двое… Знаете ли, полная чушь… Самого себя более чем достаточно… Есть люди, надежные как земля, и к ним прирастают, есть люди, возвышенные как небо, к ним тянутся, а я – река. Я просто протекаю мимо, и даже сама порой не успеваю за собственным течением… При этом с каждой минутой, не прерывая своей околесицы, Саша отмечала, что претерпевает очевидное фиаско на любовном фронте, Павел не поддавался, уходил в свою оболочку, ни мало не смущаясь пришедших в движение тектонических пород. Вообще-то женские хитрости учат, как известно, множеству уловок – как расставлять ловушки в разговоре, поворачивая его в нужное русло, как выдвигать вперед маленькую ножку в соскальзывающей туфельке, как ткать искусный желанный образ. Когда-то в ранней юности Саша, вдохновенно впитывая в себе подобные советы, владела искусством обольщения в совершенстве. Теперь это было забыто, нарочито выброшено со старыми журналами. Старые «Юности», архивные материалы, систематизация, описание… Музейная работа оставлена в прошлом. Результат в принципе и не нужен. Для любви двоих слишком много. Но отчего-то именно сейчас она хотела большого мужчину «по-настоящему», и грезились ей в пьяном полумраке привратницкой определенные позы и наслаждения, которые так легко было бы доставить друг другу. Но ничего у нее не получалось…. И за окнами по-прежнему ровной стеною шел нескончаемой дождь. Разговор угасал, сходил на нет, опадал в море растопленного стеарина обессиленный фитилек свечи. - Простите. Я выйду взглянуть на стихию, - сказал Павел. «Он даже не может запросто сказать, что идет пописать», - грустно отметила Саша. Ночь только начиналась, и была обречена на неудачу. В этот миг она даже заскучала по стерильной супружеской кровати. Что ж выход был спрятан в сумочке, в боковом кармашке, рядом с пакетиком ароматизированных салфеток. Сашенька вытащила свой пузырек со снотворным, отсыпала на ладонь сразу четыре таблетки, и когда Павел вернулся во флигель, спокойная и расслабленная она спросила, можно ли ей устроиться спать на диванчике. Павел растерялся и обрадовался. Все кончилось. Единственное, что он себе позволил – не бросать незнакомку одну во флигеле и устроиться на маленькой кособокой кушетке. |
||
YI Саша проснулась легко и мгновенно, ночной бред растаял как последнее узкое розовое облачко. Проснулась быстро, словно подброшенная изнутри и тут же отчетливо вспомнила все в мучительных и неприглядных подробностях – демонстративный уход из дома, попытки проповеднических откровений, бессилие сексуальных фантазий, беспочвенность вожделений и спасительные таблетки, оставляющие хрустальную пустоту в голове. Но постель была неудобной, собственное тело не свежим, словно впитавшим в себя запахи убогой привратницкой, утренний свет беспощадно режущим и откровенным. По счастливой случайности она проснулась на секунду позже Павла, и сквозь ресницы, затаив дыхание, наблюдала как он, совершенно гадкий, чужой, опухший со сна, приподнялся на локте в постели и, почти брезгливо оттопырив нижнюю губу, поглядел в сторону ее диванчика. Видимо он силился вспомнить ее, Сашино происхождение во флигеле. Вспомнил, вскинул вверх брови, нахмурился! Вовек бы не видеть этих коньячных глаз, какое счастье, что ночью ничего не произошло, что не осталось ни вкуса, ни запаха, ни пятен на простынях. Спал он в омерзительной белой майке, и чтобы больше ничего не видеть, Саша искренне изо всех сил сомкнула веки. Секунда, скрип половиц, тяжелые шаги, еще один скрип отворяемой двери, и струя сосновой свежести втянулась во флигель. Наваждение исчезло. Разоблачая дальше ненавистный миф, Саша заставила себя представить как грузный со взъерошенными редкими волосами мужчина в майке бредет, позевывая, в туалет и, остановившись у кустов, долго писает, мелко и часто подрагивая широкой спиной. Впрочем, особенно стыдиться было нечего, внешне сохранились все признаки ее приличного поведения, а время указывало на начало долгого воскресного дня. Она быстро вскочила, протерла грудь и лицо душистой косметической салфеткой, нырнула в свое французское платье-чулок, которое всю ночь пролежало, жалостливо скукожившись на стуле, и вылетела прочь из дурного дома, оставляя его со своей недосказанностью и самодостаточностью. Через пять минут Павел застал во флигеле лишь слабый запах розовой воды и сами розы, полу зачахшие, но по-прежнему претенциозные, кое-как втиснутые в бутылку из-под кефира, бог знает, какими судьбами и когда занесенную во флигель. Павел почувствовал искреннее облегчение, а к вечеру и вовсе забыл о своей безумной гостье. Плотно затворив за собою калитку зеленого забора, Саша изумилась преображенному утром состоянию мира. Под ногами прямой как стрела золотился путь, обрамленный малиновыми стволами сосен, вытянувшимися как юнкера на параде. Ни малейшего признака чуда или таинства, лишь явственный гул электрички, простейшие и ясные решения в голове и лишь чуть выпадающий из стройной картины мироздания разнузданный опереточный канкан, который Саша машинально напевала с того самого момента, как покинула привратницкую. Аккомпанируя своему легкому быстрому шагу, Саша пересекла железнодорожные пути и запросто сориентировалась в десятилетних переменах, узнавая знакомые переулки, заборы, крыши. Через час она уже перебудила своих давних друзей, ей варили кофе, и она потчевала благодарных слушателей пикантным рассказом о своих страхах и приключениях, о насильнике с молотком и ночи, проведенной в привратницкой, под пение загулявших раввинов и о том, как живая и невредимая она позорно бежала прочь и наконец здесь с ними пьет кофе. На волне хохота и всеобщего внимания, через ватный гул помех, Саша разговаривала по телефону с мужем и просила прощения. А тот, ликуя от любви и попирая в себе ревность, обещал немедленно ехать за Сашей. И зачинался обыкновенный праздный дачный воскресный день, столь не похожий на ночь, как день и ночь, задуманные Творцом во времена сотворения мира. Ходили на станцию, жарили шашлык, обещали при прощании друг другу какие-то бессмысленные совместные планы, и Саша дремала в машине, переболев избытком впечатлений, свалившихся на нее за два дня. Так что перед сном по старой доброй традиции счастливых семейств оставалось лишь поцеловаться и признать, что день удался на славу. И лишь после полуночи, когда удовлетворенный за все свои муки, муж наконец-то заснул, а она оказалась наедине с собственными мыслями, ей поневоле вспомнился Павел. Он был большим, далеким и недосягаемым, а сама она в этих воспоминаниях мало что вдруг стала маленькой, но еще и дурацкой, словно бездарная провинциальная актриса, дебютировавшая в провальном спектакле. Павел-то на беду последний раз обернулся на месте и обратился в желанный и навсегда потерянный образ. В общем, примерно так она себе это и представляла, когда стояла в дверях флигеля и слышала его дыхание за своей спиной. «Ехала и не доехала!» – грустно подытожила Сашенька, затушила сигарету, высыпала на ладонь четыре спасительные снотворные таблетки и тоже отправилась спать, моля Бога о том, чтобы никогда не просыпаться. Мечева Ольга. |
||||||
copyright 1999-2002 by «ЕЖЕ» || CAM, homer, shilov || hosted by PHPClub.ru
|
||||
|
Счетчик установлен 4 сентября 2001 - 1237