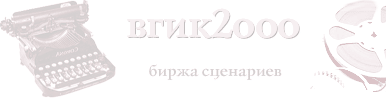
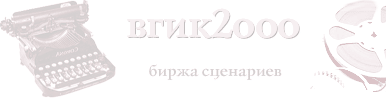 |
||||||
Шерен ЛюдмилаНЕСОВЕРШЕННЫЙ БОГрабочее название
Религиозность Люсьен выражалась в её недоступности для общепринятых моралей, она принимала форму каждой сложившейся в жизни ситуации и выдавала свои слабые стороны за сильные, а сильные за слабые. Она училась в частном ВУЗе на отделении истории Искусств и обладала двумя недостатками, которые, правда, никто не знал, но их проявления замечали с удивлением и каждый раз задавали себе вопрос: что это может быть за черта характера? Так вот, она любила подглядывать, не в щёлочку, а прямо, искоса или издалека. Она любила наблюдать и узнавать результат, и отсюда вытекает другой недостаток, который является, собственно, следствием первого: любознательность. Страсть к познанию, душившая её до жути, являлась вторым чёрным пятном в её душевном пространстве. Душевном почему? Потому что все человеческие качества являются,по её философии, гранями души. У человека нет характера, по её мнению, а есть три вещи: вера — душа — оболочка. Вера — это то, что мотивирует ваши действия, душа — это то, что придаёт вашим действиям особую характеризующую только вас технику, оболочка — это та кукла, которую собственно все видят в вашем облике и пытаются разгадать её происхождение, состав, цену и прочность. По её мнению, вся жизнь — это игра своей роли, и тот, кто сумеет среди множества ролей найти свою, тот сильнее. Посмотрим же — во что это выльется. |
||
*** Восьмой час утра. Она соскакивает со ступени трамвая и лёгким шагом, насторожено смотря под ноги, обходя провалы в грязи, идёт к крыльцу Университета. — Привет, Люсьен, — сзади наскакивает Ирка и целует её в щёку. — Солнышко, здравствуй, — нет слов как она рада. Люсьен обожаема своими подругами. Иногда она украдкой смотрит на них или на отдельную деталь какой-нибудь из них, и в её душе просыпаются тёплые и трепетные чувства. Девочки проходят длинный коридор первого этажа и заходят в большую аудиторию, где состоится лекция по философии. Читает Фатиев. Невысокий, бойкий, с молодым лицом и очень немолодым телом, он всегда смотрит через свои непрошибаемые очки на Люсьен. Он, по её мнению, чувствует какую-то силу в её жестах, он видит её независимость, он даже возможно догадывается, что она способна его в себя влюбить, но он бы не осмелился распустить своё сердце так быстро, оно итак уж наполовину распущено и ниточка (кривая ниточка, как это бывает в вязке, которая распустилась) болтается без дела, готовая прилепиться к любой шерсти. — Да, мне кажется, что Фатиев, действительно уязвим, — говорит Люсьен Даше, не задумываясь о том, что её могут слышать. Даша — высокая девочка, небольшого радиуса голова несёт густую копну волос ; голубые, как большие щели, глаза светятся, а прямой нос так красив, что ещё бы сантиметр больше — и это было бы уже уродством. Она одета во всё длинное и эти рясы делают её, стройную и такую естественно-милую, старше на пять лет. Люсьен сидит, скрестив ноги. Она одета в шёлковых брюках и замшевых женских ботинках. У неё длинные русые волосы, широкая улыбка как у красивого солдата из детских учебников, как у Юрия Гагарина ; зелёные глаза и очень пропорциональная фигура. Все части тела соответствуют друг другу — абсолютно не к чему придраться, кроме маникюра — его просто нет. Ногти с черными ободками и какой-то краской у заусенцев. Это смотрится нелепо ещё и потому, что пальцы её, как и нос, имеют идеальную плавную и упругую форму, как у подростков, когда ещё не понятно, оформилась ли эта часть тела окончательно или ей предстоит пройти реставрацию. — Почему ты думаешь так? — спросила Даша и уселась рядышком, готовая слушать, рассматривать нос Люсьен, который, по её мнению, напоминает рафаэлевские лица. — Он знает отлично свой предмет, он профессор, но в нём нет стержня. Такое ощущение, что в нём есть каркас, который сделан из всех этих книжных идей, и они заполоняют его жизнь, но самой жизни собственно у человека нет.Ну посмотри на него. — Мне он противен, — Даша усмехается, — такой сальный взгляд. Люсьен мотает головой: — Мне его жалко. Ирка, иди сюда, — она зовёт Иришку и показывает рядом с собой. Та отряхивает снег с шелковых недлинный волос и её круглое личико улыбается. — Как тебе Фатиев? — спрашивает Люсьен. — Классно читает, но, по-моему, у него какие-то комплексы. — Вот, и я говорю, — Даша натягивает на руки свитер, — и я говорю, что у мужика явно столько комплексов, что даже не замечаешь, насколько он умён, его недоделанный вид как-то невыгодно затмевает все его риторические изыски. Они смеются, а Люсьен перестав усиленно вытирать глаза вытянутыми пальцами, теперь часто моргая, говорит: — Девчонки, мне его, на самом деле, жалко, я думаю, мы не имеем право осуждать его. Он выбрал себе занятие философией, а то, что у него не сложилась личная жизнь — не его вина. Просто он что-то предпочёл чему-то другому. — Ну может быть ты права, — говорит Даша и внимательно смотрит на спину профессора, который уже идёт к микрофону за кафедрой, своей подпрыгивающей походкой, держа в руке журналы. — А он был симпатичный в молодости, — шепчет Ирка перед тем, как Фатиев успевает поздороваться в микрофон, как всегда брызгая в стальную сетку слюной. |
||
*** — А мне кажется, повторяю, что Вы не совсем понимаете в чём именно трагизм масонства, — говорит философ, перебирая на столе пачку документов. Дверь в кабинет профессора плотно закрыта. Люсьен сидит напротив и щурясь, с нежной, какой-то задумчивой улыбкой на губах, смотрит на его пальцы. — Можно я не буду раскрывать именно трагизм? Просто напишу историю и то, что я о нём думаю, об этом масонстве. Мне очень нравится сама идея тайного общества и братства. — Люся, — он вздохнул и воротничок на рубашке упёрся в подбородок или наоборот. — Люсьен, — поправила она, — Люся — это не воспринимается. — А почему? — он бросил руку на стол, руку, протянутую как диагональ к ней (она заметила это положение), словно жест, означающий желание дотянуться да её колен. — Потому что Люся — это после крещения, а я уже не крещёная. То есть я не верующая. Не христианка. — А что это так категорично, как отречение? — Да, это и есть отречение. Я другой религии. — Можно узнать, если не секрет, какой? — А я не знаю, как она называется. Он причмокнул недовольно. Зачем все эти выявления её ума? Сразу возникает столько претензий и неприязни к этой девочке или молодой женщине (он не знает), которая так много даёт тепла и так мало в этом страсти. — Я просто хотел спросить, вы одна живёте? Она сделала вспышку своими большими глазами: — Я снимаю комнату на Петроградской. — Ясно... может пригласите? — Приглашу как-нибудь, — она забирает со стола книжки с разными названиями о масонах и подносит их к подбородку. — Ну спасибо, заходите ещё. И он встал открывать ей дверь, но когда она повернулась к выходу, замялся, выглянул в щёлку (озарил взглядом смежный кабинет) и захлопнул её опять, повернулся к Люсьен, взял её лицо и поцеловал в губы настолько глубоко, что достал до зубов. Она не противилась. Только слегка покраснела, потом посмотрела в пол и облизала губы: — Это было вам приятно? — Очень. — Вы хотите ещё? — Да. — Мне кажется, что не стоит. Хоть у вас сильнее руки, у меня громче голос, а главное... Он вздохнул и закрыл спиною дверную скважину: — А кто вам поверит? — улыбнулся. — А может быть никто и не поверит, но просто мне было больно: вы достали прямо до зубов. Он был поражён светлостью её глаз. Они светились зелёным и каким-то размыто-охровым светом. — Ну так я хочу вас. — А это... у мужчин физиологически, я знаю. Он хочет что-то ответить и усмехается как прелюдия к (весьма остроумной) реплике, взятой из Вольтера: он собрался цитировать, но за его спиной дёргается ручка. — Откройте, — сказала Люсьен и на её лице выразилось какое-то неудовольствие, как будто её только что заставляли съесть мокрую, необработанную лягушку (как известно, при обработке, это — вкуснейшее лакомство), как будто она не могла её съесть и рада, что уже и не придётся. — Одну минуточку, — говорит философ, — одну минуточку. И последняя фраза звучит уже так, словно он её скандирует. — Уже выпустите вы, — Люсьен с силой дёргает дверь и выбегает с кафедры. Её провожают несколько глаз: глаза философа, секретарши, доктора Оргиша, приехавшего из Норвегии читать курс зарубежной литературы, и последняя пара глаз, принадлежащая Локку, висящему на стене. |
||
*** Люсьен выскочила из маршрутки не доезжая до своего дома, зашла в близлежащую аптеку и купила мяту. Продавец, толстый молодой человек в очках с тонкой оправой, дал ей две коробочки чаю и проводил глазами до самого выхода. Щеки его тряслись, он поигрывал ключами от сейфа с различными капсулами и склянками. Люсьен вышла из аптеки, перешла дорогу и очутилась в своей парадной. Она снимает комнату в коммунальной квартире, её комната последняя по коридору, она купила специально самую последнюю, чтобы не слышать хлопанья двери. Как только она переодевается, сразу идёт на кухню, просторную с шахматным полом и четырьмя плитами, с кучей тарелок по стенам и двумя столами. — Это странно, — спрашивает её сосед, входящий на кухню в тёмно-синих джинсах и макасинах, он журналист и его комната служит одновременно и типографией, — это странно, что студентка частного ВУЗа живёт в квартире коммунального обслуживания. — Это не странно, — она улыбается, оборачиваясь на него через плечо и выключает конфорку, — просто я сама так захотела. — Сегодня было плохо Анне Львовне, — сказал он, — выпила кофе и пошла прилечь, так такой приступ схватил. Вызывали скорую. Как только он вышел с этими сакраментальными словами о скорой, вошёл бывший художник-мультипликатор, который рисует комиксы в популярные газеты. Миша, красивый еврей с очень прокуренными зубами, чёрными волосами и круглыми плечами борца. — Люся, Люся, — говорит он и качает головой, — никому.... Тут происходит следующее: Люсьен обжигает руку выкипающим кофе, трясёт её в воздухе и с неподдельным смехом оглядывает Мишу с ног до головы: — Слушайте, Миша, хватит уже...вы очень остроумный человек, но в ваши серьёзные шутки я уже больше не верю. — А я вполне серьёзен, я не шучу, — говорит он. — Чёрт, а... — она кидается и обнимает его, потом целует и говорит, — я по тебе так соскучилась. Миша убирает её руки, быстрым движением берёт их в свою ладонь и говорит: — Я что-то не очень понимаю тебя, т.е. Вас, Люся. Держите себя в руках. После того, как он неторопливо покинул кухню, всем видом своим сохраняя чувство собственного достоинства, Люсьен берёт со стола чашку и медленно, задумавшись, наливает в неё кофе. — Так бы и сказал сразу, что больше не любит, — сказала она и закончив наливать кофе, уставилась в окно. Во рту у неё сухо, как стекловата. Люсьен забрала кофе с собой и закрыла дверь в свою комнату. Проснулась она поздно вечером от крика соседки. Соседка кричала, что её обокрали, что перевернули все сундучки и вытащили какие-то деньги, последние зоначки, украли золото, все драгоценности, она даже не слышала, как вошли в квартиру, потому что весь день лежала с приступом сердца. Вся квартира забегала, включили свет — оголили провода на обоях, стал виден весь скелет длинного коридора, с многочисленными стремянками и велосипедами по стенкам. Люсьен вышла из комнаты в халате, вытирая глаза и убирая прилипшие волосы. В коридоре стояло 5 человек соседей, маленький мальчик, сын журналиста, бегал вокруг пылесоса, нарезал круги, бойко высчитывая квадратики на полу. Этот резвый ребёнок никогда не засыпал раньше папы, а отец работал до ночи. Жена журналиста, черноволосая, сутулая амёба стояла рядом и безучастно смотрела вверх и вниз по дверям соседей, словно из них мог появиться человек, укравший деньги. — Не паникуйте, Анна Львовна, — говорит Миша, держа между пальцев сигарету, на которой пепел превратился в угол 120 градусов и вот-вот упадёт на паркет. — Не беситесь, не беситесь, не беситесь, — заорал старик, живущий по соседству с Анной Львовной. Он работал сторожем на Ленфильме, был чрезвычайно энергичен и жизнелюбив, каких мало. Он сильно любил Люсьен, потому что она всегда с ним разговаривала, а она любила его за участливость и смелость, которая с возрастом стала, видно, ещё более безрассудной, чем это бывает в юности. — Мы всё найдём, мы найдём вора, — он притопнул ногой, сопровождая этот жест звонким «р». Люсьен подошла к нему: — Мил, — так звали сторожа, он был чех с красивым именем Милорад, происхождение его открылось не сразу, а только спустя пять лет жизни в коммунальной квартире, когда он вдруг как-то неожиданно принёс Кундеру в оригинале и стал оставлять свою книжку то на кухне, то на скамейке, где мужики играли в домино, то на стремянке, а как-то забыл в туалете и смутился, когда ему вернули. — Мил, когда это всё...произошло? — Мы не знаем, мы не знаем, — он энергично развёл руками и его седая борода, закрывавшая красивый жизнерадостный рот, подёрнулась. — Люся, — услышала она за своей спиной добрый, утешающий и какой-то всегда приглашающий к чему-то Мишин голос, — милая, никто ничего не знает. Даже не понятно, как можно было проникнуть в квартиру, когда всегда кто-нибудь находится здесь. — Главную дверь не оставляйте открытой, вот и всё вам, — журналист захлопнул за собой дверь, а безучастная жена осталась стоять на пороге и теперь играла с волосами мальчонки. «Какой грустный жест,» — промелькнуло в голове Люсьен, когда взгляд её случайно скользнул по руке мамы мальчика. «Похоже на какую-то неискреннюю и поэтому пустую нежность, сулящую одиночество». — Кто-то из своих же значит и сделал, — глубокомысленно прокомментировала сестра Анны Львовны, которая была ей сводной и, после замужества переселилась в другую (внезапно опустевшую) комнату. — Из своих-то не мог, — тряся подбородком, на котором прилипли её толстые пальцы, почти проплакала Анна Львовна. — Миленькая, не плакайте вы, вернём вам, — принимается успокаивать её Мил. — Я отдам свою стипендию, — говорит Люсьен. И все смотрят, как эта красивая чудачка пересекает коридор в своём синем шёлковом халате и скрывается в тёмном треугольнике комнатной двери, а потом через несколько минут выныривает оттуда и протягивает купюру в сто рублей. Расплывшаяся от слёз, сердечного приступа и негодования соседка быстро хватает купюру и вздыхает, и благодарит, и начинает опять плакать, но только голосом (как маленький ребёнок). — Что-что, а мир не без добрых, — говорит Милорад и вытаскивает из книжки в толстой обложке две купюры по 50 — в долг вам и хоть до Нового Года. Хоть завтра завтрак купите. Анна Львовна непроста, недаром, что отчество её напоминает нам о царе зверей. Она берёт все три купюры и кладёт их в карман халата, а потом произносит такую фразу: — Ну, только если, кто из наших — берегись... Жена журналиста после таких неожиданных «слов благодарности» поспешила увести мальчика. Сестра Аннина стоит вперив руки в свои круглые бока и мотает головой, словно всё ещё не понимает, как это могло случиться. Миша ходит около пылесоса (заменил маленького мальчика) и курит третью сигарету. — Ну всё, всё, расходимся. — Спокойной ночи, — Люсьен нежно провожает взглядом Анну, которая запихивает своё упругое тело в дверь комнаты. — Подождите, Люся, — говорит Миша и в два шага оказывается около её двери, — если вам грустно, приходите ко мне сегодня ночью... выпьем опять чего-нибудь. Он останавливается перед ней как стойкий оловянный солдатик и смотрит на красивый пробор сверху вниз. — Спасибо, — заворожено на одном выдохе отвечает Люсьен и закрывает мягко дверь, долго шевеля ручку. |
||
*** Как-то утром в воскресенье Люсьен возвращалась от Ирки, которую любила больше всего. Они вместе гадали на Таро, ели сливы, читали друг другу свои стихи и прощались холодным поцелуем в уголки губ, но обе знали, что предполагалось нечто большее между ними. Они были сёстры, и стали ими вдруг. Как-то сидя за одним столиком в кафе, посмотрели друг на друга с разных концов круга и поняли, что обе одинаково сильны. Люсьен тут впервые поняла, что Ира не потребует у неё помощи или совета, как все остальные, а будет просто сидеть рядом и молчать или перебирать её волосы. И вот Люсьен разворачивается у выхода из метро и на всём размахе своего 180градусного поворота и видит Виноградскую. Виноградская была преподавателем высшего разряда с кафедры английской филологии. О ней говорили, что она осталась в девах, боится мужчин, любит ботинки Dr.Martine's, следует моде в кухне (предпочитая английскую французской), что было невообразимо даже при подсчёте всех её доходов от вместе взятых разбросанных по всему городу работ. Возможно, что первый язык, бросивший такой слух в массы, имел в виду лишь то, что Настасья предпочитала бекон вместо круасана на завтрак, кексы вместо пирожного со взбитыми сливками на десерт и пиво успевала захотеть быстрее чем вино. Из достопримечательностей этой 27 летней особы, опережавшей своим внешним видом саму себя на 10 ровно лет, вспоминают её коллеги страсть к словарям. Со словарями у Виноградской были всегда особые отношения, она просто домогалась их ; она также не верила в Бога и не во что вообще, кроме авторитета в обществе; она любила и знала наизусть кинематограф Америки, числилась русофобкой, устной графоманкой, рьяной читательницей Джойса. Так вот, развернувшись на каблуках, Люсьен наткнулась на Настасью, точнее на её круглое лицо с маленьким, как трубочка доктора Айболита, поставленная на стол, носом ; на её перламутровую помаду на губах и маленькие экзаменирующие всё и всех глаза, которые были помещены в какую-то искусственно созданную голубую тень. — Люсьен, здравствуйте, я очень рада, что встретила вас, — сказала она, беря Люсьен за кисть. — Очень неожиданно, — ответила Люсьен и улыбнулась своей лучезарной улыбкой, смутив Настю этой красотой. — Пойдёмте попьём кофе. Они отправились в кофейню, построенную только месяц назад на месте ателье. Самое стильное место в городе, где собиралась интересная питерская молодёжь, и художники вместе с журналистами разбавляли кофе с корицей и минеральную воду в своих желудках, а их спутницы набивали ляжки мягкими, дрожащими под ложечкой пирожными со сливками и вишней на самой макушке. Настя предложила «по кофейку» и Люсьен отдала последнюю двадцатку за маленький эспрессо, который совершенно не хотелось. Их разговор повернул в неожиданность с первого слова англичанки, после того как она уселась на деревянный стул и откинулась, чтобы с удовольствием попивать кофе и говорить с Люсьен о следующем: — Скажите, Люсь, а что вас интересует? Я смотрю на вас на занятиях, вы очень интересная.Если честно, — она прицокивает языком и надувает ноздри, а потом обнажает нижние зубы (понятно, что всю эту мимику Люсьен исподлобья наблюдает) — если честно, то меня тянет к таким студентам, как вы, потому что вы, видно, непростая. Тут она добавляет (очень счастливо, но лишь на секунду, счастливо): — Мне кажется, вы очень добрая. Люсьен берёт бордовую салфетку со стола и улыбается, подставляя взору Насти свой лоб: — Мне многие говорят, что я кажусь очень доброй.... — Почему же кажетесь, а разве это не так? — Просто я люблю людей, наверное, которые меня окружают. — А чем вы увлекаетесь? — спрашивает её Настя, кладя руку на блюдце. Люсьен смотрит на эту руку и думает, что хорошо было бы испечь пирожное в виде руки (кулака), чтобы его по пальцам можно было есть. — Наверное, сейчас меня интересует импрессионизм. — Что вы? — Настя морщится, — нет, Люся, это не глобально. У меня вот хобби, знаете какое? Из последующего разговора Люсьен узнает, что хобби Насти Виноградской — это «власть во всех её проявлениях», что её привораживает само сознание авторитета и успешности, которых человек добился, что её друзья все очень успешные люди, они покупают ей на дни рожденья дорогие подарки, потому что ценят в Насте ум, доброжелательность, глубочайшую начитанность ; а она,практически, готова обернуть себя в книги и знания, через которые добьётся власти. — Знаете, Люсь, и мне кажется, что вы какая-то непростая, почему-то к вам люди тянутся, — при этом Настино лицо сделалось сморщенным, потому что глаза прищурились и уголки губ подтянулись: она пристально посмотрела на Люсьен, словно ей в глаза дул ветер. Люсьен спрятала руки в рукава и зажала зубами нижнюю губу, которая, тем не менее, постоянно выскальзывала: — Да, ко мне тянутся люди... — Люсьен замолчала — может быть, отчасти, потому что я выслушиваю их. — Странный ответ. — Знаете, я не анализирую этого, — резко повернувшись вправо и заглядевшись на рядом стоящего мужчину, отвечает Люсьен. — А у вас есть какая-то мечта? — А все мои мечты становятся для меня планами... я хотела сохранить одну из них, чтобы она осталась одной единственной мечтой, но и она стала планом. — Интересно, — Настя почти физически придвинулась к Люсьен и стала так проворно сверлить её взглядом, что если бы действительно это были свёрла, то всё лицо Люсино было бы испещрено крохотными глубокими дырочками. — Это не интересно, — она грустно усмехнулась и Настя поняла опять, что этого разговора не хватит для того, чтобы узнать кто такая Люсьен с длинными красивыми волосами, светлым взглядом и медленно проникающим в тебя теплом своего тела. Настя сказала, что в университетском магазине продаётся полное собрание сочинений Шекспира, издания Вебстера, 1998 года, что является последним изданием всего собрания сочинений. Это четыре огромные фолианта по 2 кило каждый, они дорогущие, но Настя хочет указать (незаметно подвести, проходя мимо) своим «друзьям» на их четыре красных корешка и сказать нежно улыбнувшись грустной улыбкой трудолюбивой и бескорыстной преподавательницы: я мечтаю об этом издании уже два года. И это будет чистая правда. |
||
Люсьен пришла домой усталая и умиротворённая, одна её часть была полностью закрыта миру, так сильно действовала усталость. Ничего не могло умилить её в этот вечер. Только Мил, который вышей в коридор покурить, вывел её из состояния покоя такой выходкой. Он вынес в коридор пепельницу с насыпанным в неё сухим чаем и поджёг горсточку. Горсть не загорелась, и тогда он поставил свою чайную кучку на пол, сел на корточки и стал бросать туда спички, которые быстро сгорали, но проникали в чаевые нитки и огонь проникал вместе с ними. Скоро на весь коридор запахло каким-то ароматным костром. Похоже было, будто жжёшь благовонии. Люсьен села рядом с ним и улыбнулась глядя на красно-оранжевых червячков там, в пепельнице. |
||
*** Фатиев смотрит на неё через лупы в оправе своим взглядом заблудившегося эрдельтерьера, а она стоит у его стола, упираясь носками туфель в ножки стоящего за столом стула, в глубоком раздумье смотря на его грудь, или что-то расплывшееся в задумчивом взгляде, ниже лица. Взгляд философа становится говорящим, а не просто думающим: Листок с гравюры неизвестного немецкого мастера «Св. Иероним в келье, соблазняемый блудницей»....даже если такой сюжет невозможен, тогда следующий вариант: из серии найденной в коллекции Босха «Страдания Св.Антония», воротящего нос от пресвятой девственницы. Пусть этот не воротит его, но должен воротить. — Люся, я дам вам Гершензон-Чагодаеву почитать. Умная тётка, много знает и, главное, там база искусства, там те азы, которые нужны каждому, кто этим занялся. Он пропускает чай в рот а там — в дырочки, которые когда-то были зубами. — Не хотите чаю? — Нет. — А сюда хотите? Он перегибается через стол, хватает её за руку и ведёт к себе, резко дёргает руку вниз и она сваливается на его колени, успев поднять длинную узкую юбку, чтобы не наступить на неё. И тут он, чтобы не распускать в неуверенности руки, положил их прямо на её колени, точнее ближе к разветвлению ног. — И вы прочитали Фрейда для следующей лекции? — спрашивает Фатиев, а его усики остаются в каплях чая. — Я прочла «Будущее одной иллюзии»... — Очень хорошо. — Вы (если честно) женаты? — Нет, так что никакого адюльтера. После этих слов философ стал медленно загребать её юбку, медленно и неумело, и наконец поднял её с одного боку, а Люсьен привстала, чтобы он задрал её всю. Затем было много жару, и он постоянно повторял «ну, ну что... ну...нн...ннн...», сопел и бродил руками по её телу, растасовывая постоянно в разные стороны её лёгкие ладони, которыми Люся ещё пыталась отбиваться. Но когда она расстегнула его ширинку на джинсах, то увидела упрямо торчащий бугорок и тут уже к ней пришло предвидение всей дальнейшей ситуации. Когда все закончилось (а случилось всё очень быстро), и она сидела на своём философе, обхватив по бёдрам ногами, лишь с одним желанием выйти помыться и больше его не видеть, он спросил, уткнувшись в её свитер: — А кто бог в вашей религии? И уткнувшись к нему в плечо, Люсьен отвечала: — Я. |
||
*** Как только она вошла в прихожую и дверь за нею тяжело захлопнулась, вогнав в квартиру запах парадной, Миша вышел из комнаты и встретил её следующими словами: — А вы знаете, что мой очень хороший и старый друг влюблён в вашу близкую подругу? — В кого? — спросит она стоя на паркете босиком до тех пор, пока не уразумеет, что сын журналиста тыкает в её ноги клюшкой, потому что катает ею мяч. — В Лину, — отвечает Миша и заворачивает на кухню, а оттуда продолжает, — она была здесь. Сейчас только что нас познакомили. Она спросила меня, как близко я вас знаю, я ответил (он уже выходит из кухни своей мягкой походкой, держа в одной волосатой мускулистой руке кофеварку)...я ответил, что вы... моя... дочь. При этом он прищурился и сжал скулы, и его лицо выразило ту необъяснимую любовь, всеохватывающую и светлую, какою может быть только любовь к Родине. — Лина была здесь? — спросила Люсьен, провожая его взглядом до комнаты. — Только что, — и он оставил дверь для неё открытой, но та прошла мимо, обернувшись перед тем как повернуть ручку, лишь на мячик. Лина была её подругой. Самой любимой из всех, которые просят поддержки. Они познакомились, когда Люсьен улыбнулась в студенческом кафе ; когда она сказала, что хотела бы съездить только в Париж, они сблизились ; а когда Лина прошла у Фатиева курс общей психологии, они стали друг в друге нуждаться как тело, говорят, нуждается в душе. Они звонили друг другу ночью и договаривались о встрече, которая была предзнаменована Лининым рассыпанием соли (в это знамение она очень верила и потому встреча откладывалась) и Люсиным стиранием своей одежды, потому что Лина была вся выткана из безупречного шёлка, пахнущего ароматным стиральным порошком: в ней было то эстетство, с которым никто не приживался. Люсьен записала новый адрес Лининой квартиры. Мишин друг как раз только что помог ей перевезти все вещи и купил цветок в горшке. Завтра она её ждёт. |
||
*** И вот оно — завтра: |
||
Они сидят на ковре и жгут свечки. Свечки французские, цветные, форменные ; длинные горят хорошо с острыми пламенем, разноцветные широкие почти не дают огня. — Ну как ты считаешь, чего ты боишься? — спрашивает Люсьен, засовывая в их «костёр» из двух сплавленных свечей тоненький сучок от веника. — Ну не знаю, ничего, наверное, не боюсь. — Как? (Люсьен делает удивлённые глаза, это нереально для неё, даже наврать так с чистым лбом, не дрогнув — невозможно). — Нет, ну теоретически я могу бояться, что я не найду своё место в жизни, да?Я могу бояться, что я не найду, чем я могу заниматься, чтобы это было полностью моим. Но практически я этого не боюсь. — Как (внимательная усмешка) не боишься практически? — Ну, я знаю, что этого у меня не будет. Взгляд Люсьен выражал испытание, которому она подвергает Лину, она закрыла кулаком рот и внимательно посмотрела на это существо, обожаемое всеми мужчинами. — Еще, — продолжает Лина, крутя над пламенем полиэтилен от пачки сигарет и при этом пуская на себя дым, — ещё у меня, знаешь, реально, есть такой страх, очень странный, то есть совсем женский страх. Короче, я боюсь, что у меня никогда не будет детей. — А почему? — Я не знаю, — она смеётся и заправляет за уши волосы, — я не знаю, — её голубые штаны прилипают к ковру и она, не замечая этого, трётся коленкой об ковёр, — ещё, знаешь, реально, теоретически, у меня может быть такой страх, что я никогда не найду себе человека в жизни. Ну, никогда не найду человека, который будет моей второй половиной, будет полностью частью меня. — То есть, ты боишься одиночества? — Да нет, это не одиночество. Не знаю даже, это просто боязнь не иметь близкую душу. Ну ещё. Теоретически, можно бояться нищеты там, да? Но не то, что она существует, а что тебя затронет. Они разжигают на блюдечке маленький костерок, который начинает выходить за пределы фарфоровых краёв. Лина держит над огнём зажигалку и вдруг одёргивает руку: — А ещё я точно боюсь, что что-то случится с моим телом. — Что может случиться? — Ну, сейчас я испугалась, что зажигалка взорвётся в моей руке и я останусь без руки. — А почему ты хочешь уехать? Ты думаешь, что избавишься от своих этих проблем там? — Да нет, я не думаю ничего, просто мне нужно поменять обстановку, понимаешь, это не как бегство от чего-то. Это просто запланировано в моей жизни: грубо говоря, я заканчиваю Университет и на следующий день я уезжаю... в Европу, не важно куда. — Ну так, ты не можешь поехать не ведомо куда, ты же не знаешь, что тебя там ждёт, ты не знаешь, что за люди. Нужно понять, чего ты хочешь сначала. — Нет, нет никакого смысла пытаться понять это, если там всё равно всё начнётся с начала. Потом Лина легла на диван и Люсьен бросила одеяло на её спину, выпила ещё соку и ответила на звонивший телефон, договорилась за Лину о встрече с успешным молодым юристом и передала ей точное время и место встречи. Потом выключила свет со словами: — Подумай о прошлом. |
||
*** — Пройдёмся по твоему любимому городу вместе, — предложила Люся, когда они выходили в 10 вечера из парадной за полгода до отъезда Лины за границу, а в точности, за полгода до её эмиграции. — Как ты думаешь, реально, я уеду? — Ну да, конечно, ты на все сто уедешь. — Почему ты думаешь так? — Потому что ты очень этого хочешь. Сила желания такова, что если ты очень хочешь чего-то от всего сердца, и при условии, что это исходит чистым потоком энергии именно от твоего сердца, то это материализуется. Превратится в астроидею и материализуется. Только если это желание действительно твоё, а не перенятое. Бывает такое, что мы перенимаем желания у других (за неимением своих) и верим в них, но в нашей жизни они силы не имеют, потому что они идут не из нашего сердца. Они идут от ума. — То есть уму верить не стоит, что ли? — Нет, осуществление всех желаний идёт через сердце. А то, что от ума — часто ложно. Ум умеет бояться, сердце — нет, оно бесстрашно, поэтому, всё, что от него — всё правдиво, а ум знает страх, и часто руководствуется только страхом, поэтому идеи, которые идут от ума — не имеют силы для осуществления....(и не дай бог, если они, всё таки, в виду каких-то обстоятельств реализуются.) — А что если я не уеду за границу. Люсьен смотрит на огромное здание, которое возвышается за полем и на буквы BCC. — А ты уедешь. — Почему? — взволнованно Лина трепет её за рукав, как это делала в детстве, когда мама привозила её в больницу, отдавала кулёк печенья фигурками, и, посидев минутку, собиралась уходить, а Лина уговаривала её остаться. — Ну, потому что это — судьба. — А, ты всё-таки веришь в судьбу? — Так всё задумано, — Люсьен переводит Лину через широкую дорогу, освещённую мигающими жёлтыми светофорами, — всё, к чему ты в итоге приходишь — это не результат, а лишь средство воспитания твоей души. Если то, чего ты хочешь не случается, значит просто тебя это не может взрастить. Конечно, ты уедешь, потому что это даст тебе огромный душевный рост, без этого ты просто не сможешь двигаться дальше ; а жизнь сама по себе движется, поэтому не может быть такого, чтобы ты в её потоке остановилась, это просто физически невозможно. Лина захватывает голову Люсьен в охапку и целует: — Господи, как я люблю тебя...за это. |
||
*** Через неделю, когда она пила сладкий чай в кафе, Фатиев подсел к ней. — Я заметил, что вы нос воротите, — сказал он, причмокивая своими усиками. Он узурпировал её взгляд, кидая мелькание своих глазок на всё, куда она смотрела. — А зачем вы подсели? — Ну, Люся, это так банально, — он начал цедить сквозь зубы и дырки от зубов в прошлом, — вы же сами согласились, никто не совращал вас. — Да и я тоже не соблазняла, — ответила она улыбнувшись. И он понял, что они, в общем-то, в одинаковом положении. Люсьен встала и пошла, попутно подняв с пола ключ, который Настя уронила из кошелька, Настя Виноградская, стоявшая здесь же в очереди. — Когда у вас день рожденья? — спросила Люся — В мае... — испуганно ответила Настя и хотела ещё что-то сказать, но Люсьен вышла из кафе, а к ней обратился философ: — Простите, моя рыба... И он потянулся за священной пищей, сделанной под сметаной, которую он всегда ел в периоды обострённой идеологической астении. |
||
*** Миша во вторник зашёл на кухню и сказал: — У меня только что был Костя. Люсьен ела свою авангардную пищу: хлеб, помазанный тонким слоем масла, жёлтая поверхность которого была испещрена изюмом. Миша прошёл вглубь кухни и налил в широкополый бокал коньяку, а когда вернулся к столу, между ними произошёл следующий диалог. — Я думала, если честно, что вы меня любите, или хотя бы влюблены с первого взгляда. Но ничего такого я не нахожу, Миша, и разочарована. — Слышать это (его улыбка похожа на прямоугольник слепленный из жвачки) для моего ума задача сложнее, но приносящая в сто раз больше удовольствия, чем игра в шахматы. Люся замолчала. Её хлеб кончился. — Я не знаю, что вам нужно такое сказать, чтобы сразить вас. — От вас всего два слова, — он выдвинул из кулака два пальца. Тут на кухню входит кошка, которая ждёт котят. За нею вбегает Мил в штанах с отвисающими коленами и со словами: — Ух ты, моя беременная, — он хватает мягкотелое существо в охапку и уносится в коридор. — Говорите... — Вы удивили меня. Когда я увидел вас в стенах этой квартиры две недели назад. Впервые...вы удивили меня своим лицом, манерами. Как прожектор, направленный из глубин зала в лицо, просияла улыбка Люсьен. — Скажите пожалуйста больше. — Когда мне было двадцать, ну или...как вам. Я очень сильно любил одну девушку. И вы... как две капли воды на неё похожи. Так вот, если бы вы сказали мне: Это — Я. Я был бы сражён. Люсьен выставила на него глаза как два дула и чёрное горло её свитера сделало её грустнее и старше, чем ей, несомненно, хотелось в этот момент казаться. Она потянулась в другой угол стола за большой ложкой: — Как вы думаете, зачем положили сюда эту ложку? — спросила она через плечо. И в эту тревожную минуту, когда он грел в руке коньяк и поэтому пил его не просто в пустую, а с теплом ладони, в этот сладкий для него миг, когда она предоставила свой правый профиль ему и сделалась особенно милой, потому что стала зеркально похожа на его любимую, в Люсьен вошёл демон мщения, указавший ей на оружие. Она повернулась к Мише и сказала: — Может быть для этого? — с этими словами окунув столовый прибор в его бокал, зачерпнула в стальное лоно почти весь оставшийся коньяк и, поднеся к губам, выдула ничуть не морщась. Когда её намерение оставить его одного достигло своего завершающего этапа и она почти вышла из кухни, он сказал: — Лина получила серьёзный ожёг, это самое главное, что я хотел сказать вам, Люся. Она и не подумала обернуться. |
||
ДНЕВНИК ЛЮСЬЕН |
||
Есть ли у меня хоть кто-нибудь? Нет. Конечно, я прихожу к выводу, что никого у меня нет, и все имеют дело не со мной, а с моей тенью или с иллюзией меня. К сожалению, должна признать перед моими очарованными сокурсницами и прочими, кто любит во мне Люсьен, что они не имеют ничего. Можно подумать я когда-то говорила им, какое зло гнездится в моём сердце? Я-то наказана тем,что всех отражаю, со всех перенимаю, а сама себя в зеркало не вижу. Смотрю и не вижу.(А люди такие спокойные, я не понимаю, как они могут быть уверены, что они — это именно они, а не сосед, который рядом. Это же так просто: взять и стать тем, кто рядом) Никто не поверит, что можно не иметь себя, а — можно. Вчера я смотрела на нашего учителя по стилистике и вышла из кафе ровно его шагом, подошла к полке с книгами, которые он бы смотрел и стала делать всё в точности, как это делал бы «стилист». А потом меня заразили ароматом девочки с отделения танцев и я сразу же стала ими. У меня есть множество теорий и доводов, я — скопище наблюдений, но сама из себя я — никто. Спросите меня, что я люблю на завтрак и я даже не скажу вам, почему ем изюм с хлебом. Наверное, увидела где-то. На меня каждый вечер из зеркала смотрят глаза, и по какой-то причине, я не могу сказать, чьи это глаза сегодня: моей сокурсницы, соседки или философа. А своего выражения лица я не помню. Видимо оно когда-то было у меня, потому что иногда мне снится та Люся, которую я знаю. Но с каких-то пор я отказалась от моего имени, потому что мне стыдно. Оно просто не моё. Я какая-то смешная с ним. Какая же я Люся? Я вообще не знаю, девочка ли я. |
||
.... Проще всего играть актрис. У них примитивная техника, и производит эффект. Поэтому мне часто говорят: ты такая особенная, всегда с тобой интересно:на самом-то деле в этот я просто вижу себя как ту красивую женщину, которая в последний раз мне понравилась и я не могла от неё оторваться глазами. Но иногда я становлюсь рыцарем и готова охранять Лину от жестокосердных хахалей. Даже не знаю, какая красота мне больше нравится — женская или мужская. Не могу выбрать. |
||
... Мне стали часто говорить, что со мной хорошо, удобно, уютно. Ненавижу людей. Я просто для них формочка. Я делаюсь тем, куда им удобно говорить. Точь-в-точь отражаю их. Отражательная способность зеркала. Кем же я была, когда была собой? |
||
Сегодня полдня потеряно. Я всё утро была в панике. Не понимала, кто я. Зашла в троллейбус и все начали меня пихать. А я верчусь, как юла. Потому рядом пихнули какую-то девочку, она чуть ли не под дыхало дала в ответ. Алкашка какая-то. Я подумала: а что я так не могу? Но у меня только лицо задрожало, когда меня толкнули опять. Чувствую какую-то пустоту на том месте, где стою я. Как будто невидимка. Мне страшно. А вдруг люди узнают, что я их копирую. Или ещё. Я же не могу играя кого-то и жить его жизнью. Например, играя Лину, я всё равно не уеду жить в Париж. Что же я буду делать? Когда же я была собой? По-моему, только когда была ребёнком. |
||
NN ноября. Перехватчица — я ухватываю у всех всё. Не знаю, когда наконец хоть кто-нибудь поймёт, что я — скопище изображений. Сегодня весь день я была Фатиевым. Интересно то, что я всегда вижу себя со стороны, но не могу определить, какое у меня лицо. Вот замечательно, все говорят, что я добрая. А меня-то вообще нет. Представляете, сокурсницы, милые, нет меня. Я всегда с разным лицом. Только иногда боюсь, что люди вокруг начнут узнавать во мне себя. |
||
NN ноября. Подходит Фатиев и говорит про масонство. А я стою с его лицом. Просто отражаю его лицо, а своё уже не помню. Мне кажется, что мне дана способность свыше играть разных людей. Я ведь не знаю даже, что я хочу. Я знаю, что хотят все другие люди, которых я играю. У меня нет своей жизни? Моя жизнь состоит в том, что я скрываюсь от людей. Они думают, что я очень разная, а я просто всегда вижу себя в зеркало с разными лицами. Вот уже четвёртый день — с лицом Сашки из балетного класса. Разворот ноги уже мне привычен. Я ведь тоже могу танцевать и пируэты делаю как щелчок пальцами. Вот это сказка, если бы она узнала, что я — это она. Небось с ума бы сошла, начала претендовать на свою собственность. А я — что? Я всё могу. Она же свои мимики не запатентовала, так что я взяла их и ветром сдула. И теперь я вторая Сашка из балетного. |
||
NN ноября. Сегодня я сменила образ. Утром встала. Вижу со стороны. Что-то не то. Уже не получается быть Сашкой. Голова слишком тяжела. Я поняла, что во мне разжигается какой-то огонь мщения и даже волосы дыбом становятся. Мне хочется отомстить всем людям за то, что их так много и они все требуют перенимать себя. Я ненавижу людей вокруг, потому что не знаю от кого ожидать следующей ловушки. А вдруг он возьмёт и заманит меня в свой образ. И уже третий день я — учитель Истории или что-нибудь в этом роде. В последнее время я пытаюсь ни с кем не знакомиться: с меня пока хватит. Сегодня я Сальери. Я отворачиваюсь от всех, и в то же время, я готова признавать их природную гениальность.(быть всегда однозначно собой — это в моём понятии — дар, тонкий как ребро листа) Но что-то мне не верится, что каждый из людей, которые меня окружают, играют сами себя. Мне кажется, что все они перенимают чуть-чуть друг с друга. Это же так сложно постоянно оставаться кем-то одним. Как можно не попробовать быть своим соседом? |
||
NN ноября. У меня будет всё хорошо. Всё образуется. Всё наладиться. Я знаю, что нужно только... Господи, помоги мне. |
||
NN ноября. С Фатиевым целовалась на кафедре. Я достала аж до зубов. Мне кажется, что он удивился. А я решила: так сделала бы Лина, если бы целовалась со своим фешенебельным юристом. По-моему, резвости во мне ещё не было. Сегодня я попробовала. Сносно, но мне долго не выдержать. Мне легче наблюдать за резвостью, чем играть её. Но я думаю: люди всё уже в этот мир принесли, я не дам ничего своего, всё равно кого-нибудь повторю. Тогда уж лучше всех понемножку. Если Бог сделал людей по образу и подобию, то бог несовершенен. Подступает тошнота, когда я долго чувствую себя пустым местом. Немного — от вампира. Когда вижу образ, от которого отсасываю: сразу всё ладится. Но вчера я была человеком, говорившим поговорками. Автором подблюдных песен, автором, которого я никогда не знала, не видела. Но чувствую его и это заряжает. Когда неслась от Фатиева по лестнице, сбила с ног Сашку. Она отозвалась, сказала, что я дура, мечусь как оголтелая вечно. Я не мечусь никогда, я всегда слишком флегма, чтобы метаться. Я ей на это ответила её же разворотом ноги и (с её северным акцентом и интонацией) сказала: не надо — под ногами....ладно? И завернула на второй этаж, где танцевальный. Сегодня весь вечер хочется одеть на себя танцевальные тапочки, просто жуть как надо, ото будет что-то недокончено. Никем другим, кроме Сашки, я уже сегодня стать не смогу. |
||
NN ноября. Я каждый вечер спрашиваю себя: а кто я сегодня? Решила записывать. (Бог, не знаю, какой ты, если есть, помоги. Верни мне меня. Не помню, когда ушла — куда делась.) |
||
Сашка |
||
Сашка |
||
Фатиев |
||
учитель технологии живописи |
||
Анька из 10-ой |
||
автор подблюдных песен (сыплю цитатами) |
||
Пушкинская дева |
||
Сальери |
||
Сальери |
||
Сальери |
||
Сальери |
||
Сальери |
||
Сальери |
||
NN ноября Очень легко было бы стать просто христианкой и никого не играть. А быть именно приверженной фанаткой церкви. Но я не верю в него. Я не верю в Того, кто создал Тех, в кого Так — легко облачаюсь. В нашем кафе все берут рыбу. А я сижу и ем хлеб, потому что в столовой я почти всегда — я в детстве. Та девочка, которая отдыхала летом в Вырице и жевала хлеб с изюмом, когда мама не кормила ничем другим. Быть собой в детстве легко, но шатко: не могу общаться с людьми, приходится разыгрывать. Мне становится иногда по-настоящему страшно. Я знаю — меня же так легко задеть и разбить как зеркало. Малейшее слово, и мой образ разбивается, и я ползаю за осколками как слепая — и надеваю первую попавшуюся личину. Но, знаете, дорогой Миша (я уже вам это пишу со вчерашнего дня), я поняла, наблюдая за людьми, что все вы такие. Вы на самом деле все не знаете, кто вы и не видите своего выражения лица. Вы тоже копируете друг друга, тоже отыгрываетесь чужими манерами и чужими мыслями, вы все куклы. И вас легко разбить. Ну что ж, вы догадались? Сегодня я — Фатиев. |
||
NN ноября. Миш, а вы пробудили во мне на два дня такое блаженное тело. Я почувствовала себя аленьким цветочком. Тем цветочком, которого ещё нет на земле. Этим особенным цветочком, который, может быть, и есть что-то новое. Не говорите, что вы меня не любите. Я уже живу как «ваш любимый цветок». |
||
NN декабря Женственность неуязвима. Лучше всего быть женственной — во всём спасаться ею, прятаться в неё. Наша Таня — настоящее воплощение женственности, и, кажется, её невозможно ничем разбить. У неё всегда лицо выражает теплоту и живость, вместе с этим нежность. Я сегодня весь день — женщина-цветок. У меня чрезвычайно гибкая шея и мне хочется каждого приласкать. А Миша сказал, что я сегодня странно-тихая. Может быть не привык ко мне такой? Под вечер сильный жар поднимается. Не пойду завтра никуда. Останусь на весь день с Мишей и со своей женственностью, чтобы воспитывать себя. А когда выйду в Университет в пятницу — уж точно буду крепка как орех, и никто не узнает во мне себя, потому что я буду уже — цветочком выпестованным. Да, пестовать женщину надо. В этом всё и счастье. Я чувствую нерасторопность, я не проношусь мимо людей, и не разглядываю их (и глаза отдыхают от этого), и не оборачиваюсь на них. Я просто остаюсь взглядом на разных предметах и мне кажется, что всё, чего я хочу — просто быть вместе с Мишей и заботиться о нём. Он назвал меня аленьким цветочком. Калинушка с малинушкой — лазоревый цвет. Весёлая беседушка... Где миленький пьёт. (смешная же я) |
||
NN декабря Пришпорь-ка здесь: на большой скорости — видимость сужается. Сегодня наблюдала за соседским сыном. Так что сын? Мальчика попросили выгулять кошку. Они её берегут, так как она уже находится в положении, и по нерасторопности, может выбежать на дорогу, ну или — всякое бывает. Мальчонка пришёл со школы. Мама просит — выгулять животное. Мальчик говорит: сейчас. Подходит к столу кухонному. Вытряхивает из карманов всё, понимаешь ли, содержимое. И так очень нерасторопно, почти смакуя каждый жест, с важностью и полнейшей созерцательностью, начинает вставлять в плеер батарейки — попросту меняет их. Какой индивидуализм — с шумом вытряхнуть батарейки, когда рядом стоит раздражённая, как Медея, с распущенными волосами и полотенцем в руке, мать. С шумом, повторяю, вытряхнуть батарейки и спокойно укомплектовать ловкими пальцами новые. Я бы, вероятно, всё же так не сделала: вечно куда-то тороплюсь. Есть в моих действиях элемент гонки. А в гонках так и остаёшься, фактически, борзой, даже, если прибегаешь куда-то. Так что снижение скорости может быть очень полезной поправкой в моей жизни. |
||
Фатиев. |
||
P.S. Ах, да. Миша сегодня выпроваживал девушку из комнаты. Так осторожно внедряясь кистью в равнобедренный треугольничек её согнутой в локте руки. Аж бежал за нею вприпрыжку, не доставляя себе никакого совершенно неудобства. Да бросьте вы, Миш, пристало что ли взрослому-то, в прошлом эфебу, бегать за юной особой с невнятными притязаниями. Хотели дотянуться поцеловать, да она, стрекоза, увернулась. Ну ALIAS, как говориться: в другое время, в другом месте. Не при дядьках. Я прошёл себе спокойно на кухню. У меня там рыба. |
||
NN декабря Знаю всех до ногтя. Надоело. Я никто. Пустое место. Чтобы быть отличным от людей — нужно отличать себя по вере. Я помню,как в детстве играла в злых волшебников — и сразу такую силу и вседозволенность чувствовала. Даже бросить палкой в собаку могла — как будто так надо. И сразу меня все боялись, но при этом, они не волновали меня. Никаких претензий — бояться, ну и что. Любят? Ну у меня своя миссия — я злой волшебник. Так что никаких мне привилегий, ни нежности не надо, ни, собственно, советов. А злые волшебники сами советы дают. Они же всё знают. Они же имеют связь с демоном. Даже не демон, а просто человек, которому открыты все дары, и у него же есть огонь. Его могущество в том, что он может все эти дары — в огонь. И этот человек открывает путь мне. Я видела его во сне: он сказал: «Ты гениальна. Людей надо лишать, если хочешь лишать. Их надо одаривать, если хочешь радовать. Их нужно наказывать соразмерно ущербу, что они причиняют». Это открыто только человеку, который понимает, что природа каждого наказывает. Сколько отдаёшь ей — столько она тебе. Сколько отдают мне — столько я им. Я — волшебник. Решено. a die... /от сего дня/ |
||
NN января. Они бегали как куры по насесту. И эта Таня (жена журналиста) проявила свою ломанную женственность во всей своей красе. Да, Медея не была такой, мне-то известно. Самая лучшая сторона женственности — стервозность, и мужчина прекрасно уживается. Да мне нет дела до них. Я высыпала Анне Львовне в кофе столько порошка, что она, бедная, за сердынько схватилась. Люди лодыри — не хотят знать, что как пахнет. А если бы понюхала свой чёрный раствор, перед тем как обмывать им гортань и пищевод. Но бабушка не смекнула, в спешке заглотила весь кофеёк, чуть чашечкой не закусила, бедолага моя. Сердечко: бум-бум, и ка-а-ак рухнет. Она и слегла. Я ей только нить жемчуга оставила. Мало ль продаст, если уж совсем голодно. Да денег-то у Львовны, надо сказать — немеренно. И главное, мне — не на что. А когда в коридоре обсуждали, Аннушка, бедная «мышцу смеха» так и придерживала пальчиком, чтобы не съехали наши губочки до гортани, ото уж совсем рыдать готова. А жена журналиста, наша сама женственность, всё зрачки катала, как яблочко по блюдечку. Всё же какая она одарённая стерва. Если бы не их мальчиш-кибальчиш, Анну Львовну, несмотря на её этот тупорылый снобизм, это Анну Львовну, говорю, не трогала бы. Таня всё стояла тренировала свой изощрённый танец глаз, как ужаленная Ио, несущаяся по берегам Египта. А потом захлопнула за собой дверь. Самое сладкое перед сном — знать, что никто не может догадаться, какая в твоём сердце муть. Какая ты змея. Улыбаюсь милосердной улыбкой, делюсь своей стипендией, а за дверью пересчитываю последние деньги старушки. Это-то и есть — сила. Не то, что действительно могу всё, а просто сказала себе, что — могу. |
||
NN января. Ну, жажда — это субъективное ощущение. Развивается оно при обеднении организма водой. Или не водой, в зависимости от типа жажды. Я сразу поняла какого типа жажда у Фатиева. Сокол мой, аж ноздри воздухом приклеивает к перегородке — так глубок его вздох, при появлении меня. Он будет бегать за мной, как Яго за Отелло, чтобы только посмотреть на движение тазобедренных костей моих. Да там не видны кости — всё плотно зашито мышцами. Фатиев больной. Он болен и не знает об этом. Видимо, у него были плохие отношения с отцом и он учился у своего «Эдипа» недолюбливать женщин за корысть. Потому что он плохого о них мнения, а перед кроткими как я его потовые железы вырабатывают столько воды, что терморегуляция, нарушается сверх меры. Я отдала ему то, что он хотел. Если бы он знал, что занимался любовью на своей кафедре с кормилицей Федры. (помните ту, которая у Расина, Миш? Прочитайте, вам полезно знать оттуда всё. Особенно про кормилицу, которая убила трёх человек, опозорив одного, самого невинного). |
||
NN января. Трёхтомник Шекспира в моих руках. Как вам, Настенька, властвовать? Какая тут власть вам, когда братья вольных каменщиков скупают «ваши» мечты и ставят их на свои полки. Но не волнуйтесь, милая, я подарю Вам песнь о Сиде или о Ролланде. Они также в цене в тех кругах, где вам хотелось бы завоевать корону. Если она конечно поместится на вашу голову. Сегодня Настя подошла ко мне и сообщила наипечальнейшее из всего, что слышали мои уши в эти последние дни, блаженные дни. Она сказала следующие фразы: — Люся, вы не поверите, эти три тома купили. Я обхаживала их два года. С тех пор, как нам из London Shop поставили их в Университет, они оставались в магазине. За такую цену никто книги не возьмёт. И вы представляете: их купили. А кто? Я спросила у женщины, которая у нас торгует книгами, — пожимает своими острыми плечиками, — она не знает. Не придумать ничего хуже. Сказала мне моя англичанка в кафе и её уменьшающиеся с каждым днём (по непонятной причине) глаза наполнились какой-то жидкостью. Она не может придумать ничего хуже. Не надо придумывать. Я не желаю ей лишь хуже того, чего она достойна, а всё остальное «хуже», вероятно, должно забыться скоро. Когда Лина спала, к её ногам была поставлена свечка. Если человек боится обжечься, он должен просто обжечься, чтобы не бояться этого. К сожалению, поверхность дивана оказалась слишком скользкой и податливой. Свеча как мячик скатилась к её ногам. Это я обожгла её. Это всё сделала я. Теперь Всё делаю Я. |
||
NN февраля. Не хочу никакими манёврами мириться с этой добротой. Ладно ваша, Миш. Ваша доброта прощается, может быть она так — для сексуальности. Но есть другая, очень свободная доброта, никому не обязанная, никого не призванная ободрить. Меня убивает Мил и его мягкие кошачьи жесты, мудрый взгляд и внезапный всплеск добродетели. Всё это не нужно здесь, в этой квартире. Я не стану искать других путей избавиться от этого апостола Павла, кроме как самого развлекательного. В конце концов, что может развлечь меня больше, мой ненаглядный пришелец с многострадальной земли (я подозреваю о ваших истоках, дорогой Миша: ваши брови не разъединяются, и Новый Год вы отмечаете в сентябре, у вас глаза светились весь сентябрь), что может развлечь вакханку больше — повторяю — чем экспозиция навыков «сделай сам». Я не хочу смотреть на его добрые глаза. Уяснив себе причины и следствия, могу уведомить вас о том, что готовлю ему голубой шёлковый шнурок. Ах, Михаэль, как мне надоели ваши «маленькие трагедии», пристало ли взращенному на мокром троеперстии по утрам мальчику драться в пьянках за плешивую собачонку, подобранную вами в «Достоевском-баре». Разберитесь уж с женщиной. Они сами бы попросили вас: да я наперёд вижу, и прошу за них. Выберите себе хоть самую потаскуху и оплодотворите её. Будьте вы, в конце концов, голубем. |
||
Это последнее письмо. Поэтому я прошу вас. Оставьте всё как есть. Никому ничего обо мне не говорите. Я жду появления вашего Сына на свет, святой мой дух. |
||
л. |
||
Конец дневника |
||
Она просчитала четыре последних клеёнчатых квадратика перед входом в комнату Мила. Захлопнула за собой дверь, которая удавила последнюю струю света, и, оказавшись в чёрно-голубой камере, ровным шагом, смотря на лежащую под одеялом фигуру, приблизилась к раскладному дивану, всему в белых простынях и складках голубого цвета. Человек образовывал крюк. Это всё, что было видно. Подушка — голова, дальше — согнутое гибко тело. Лицо Люсьен выразило вглядывание. Она закусила губу, несколько раз попробовала её на вкус. Тонкий шнурок ленты выскочил, как змея из кустов, и один конец его упал на лицо спящему. Люсьен быстро, аккуратно присела на край диванчика. Присев, дотянулась и, накинув свой красивый холодный шнур, сжала горло в долю дуновения ветра, который потряс окно. Человек скрючился, легонько задрыгал ногами. Она помогла одеялом, накрыла голову и сделала из него кляп. Через несколько минут всё кончилось. Всё кончилось на глухом звуке, словно выдавили из тюбика последнюю каплю горчицы — хрясте — нечеловеческом «хере». Подождав секунду, она встала и пошла к выходу. Проскальзывает в щель между дверью и стеной и вдруг вздрагивает, вздрагивает и судорожно оборачивается в правый угол комнаты. В углу, справа от кровати и сразу по стене, где находится дверь стоит кресло. В кресле она увидела фигуру сидящего человека. Минута вне пространства и времени. Кажется, его глаза закрыты. Люсьен со свистом захлопнула дверь. |
||
На утро её не было. Комната чисто убрана. Цветы стояли вряд, ни одной вещи не оставлено после себя, ни одной бумажки. Дневник был положен на столе в Мишиной комнате. |
||
*** Через месяц (вот как это было) они встретились. Миша подождал её у выхода из университета. И когда она пропрыгала три ступени вниз, подскользнувшись прямо перед его носом, он поддержал крепкой своей рукою. Она же подняла на него лицо и он увидел, что овал его обрамляют маленькие невидные волосики (признак южной крови), а длинные волосы её из-под шапки торчали кисточкой на затылке. Она подстриглась. — Я хотел поговорить с тобой недолго, — возразил он на её «только не ты». Схватил за локоть, как отец и оттянул рукав. — Пройдёмся, — сказала она. Парк, раскинутый недавно, имел водоём, и они пошли прямо вдоль него. — Что стало? — спросила она и её глаза приобрели какой-то влажный взгляд. Она шевелила губами особенно рельефно, а голос её был низок, как последняя нота на скрипичном ключе. — Вы сначала, Люся, должны узнать, что было, — ответил он. Его чёрные волосы были коротко стрижены. Мягкие черты лица, черты, оставшиеся с детства. Он был маленьким еврейским мальчиком, ходившем в теле 36-летнего мужчины. — Вы входите в комнату и в вашей руке шёлковая лента, которой вы собираетесь расправиться с Милом, — говорит он, — вы входите и убиваете ребёнка. — Миша, что вы говорите какими-то метафорами. Я не собираюсь читать вашу наскальную живопись, пытаясь отслоить один сюжет от другого и разобрать их в отдельности, говорите прямо и последовательно, причём тут ребёнок? Между своим объяснением «при чём» и её вопросом он быстро пропустил (и невольно): — Сегодня вы — кто? — Я уже давно — одна единственная. — Вы убили мальчишку, Люся. На кровати Мила в эту ночь спал мальчик. Лёша. Сын журналиста. Мил уехал в этот день. Уехал к своей сестре, под Петербург. А мальчик. Мальчик, сын журналиста, Лёша маленький, семилетний. Он остался дома с папой, потому что Таня (это мама) уехала в командировку. Мальчишка утром при мне попросил Мила разрешения спать сегодня на его диване. У него мягкий хороший диван, а не раскладушка, на которой спит журналист. И Мил разрешил ему. Под одеялом, Люся, лежал мальчик. Вы убили Лёшу. На её лице ничего не изменилось...она косо посмотрела в сторону речки. — Боже, — тихо про себя... — Боже, Боже...Господи, — сказала она шёпотом, — что ты сделал? Где его мама? — Мама здесь.... — Что с ней? — Он ей снится... — Миша, — сказала она, — Миша, меня, наверное, ищут...они ищут меня? Они ведь не могут думать больше ни на кого. Тут он увидел в её глазах спокойствие и равнодушие. Ему показалось, что она хочет сдаться, что она хочет признаться. И он перебил её, когда она сняла с головы шапку и показала свои стриженые волосы. Он сказал: — Люсенька, сынок... вас не ищут. Забирают меня. Она сдвинула брови и вгляделась, не шутит ли этот шахматный чёрный конь, так похожий на именно шахматного коня. — Я спал в кресле. В комнате спал. Зашёл в первую дверь при входе, пьяный был, и рухнул в кресло, и заснул...конечно, обвинили меня: я жду суда. — Почему вы не дали им мои записи, почему вы не сказали, что это я. Это же возможно, Миша. — Ты хочешь сидеть в тюрьме? — тут его голос стал насмешливым, каким никогда не был. И мягкие черты лица обнажили выглядывающего оттуда демона. Она закусила верхнюю губу и заплакала, отвернувшись в сторону. Тихо заплакала, без содроганий и голоса, но слёзы текли как тающий лёд. — Люся, — сказал он, — зачем вы всё это делаете с собой? Оставайтесь тем, кто вы есть...не надо ничего придумывать. Она сквозь слёзы ответила скрипучим голосом: — А всё дело в вас. Вы были моей последней надеждой. Я хотела быть с вами. Женщиной. И пусть вашей любимой в прошлом. Всё равно — как. Да вам же этого не нужно было. — Не нужно говорить,что всё дело во мне, — его голос прозвучал как альт и на лице выразилась строгость, какой она ещё никогда не видела. Строгость, сродни (невозможному для него) высокомерию. — Не нужно мне этого говорить. Вы ещё юная, ничего не понимающая девочка, экспериментирующая над собой в своё удовольствие. Ну так это ваша жизнь, ставьте себе разные задачи и разрешайте их, если вам так удобно, только других не надо обвинять в том, что дано совершить в вашей жизни только вам. Вы самоутвердились — а плачу за это я. Я знаю,что мог бы предоставить вам самим платить за свой «божий замысел» и может быть вы бы нашли себе какую-то новую роль и отлично бы её сыграли. Но тут есть другое. Другое, Люся, чем ваше всемогущество. Я просто люблю тебя, сынок...я просто люблю тебя, и я не позволю тебе ломать на этом свою жизнь. Делай сама с ней, что хочешь, но я не могу допустить этого зла в твоей жизни. Да не знай ты этого зла вообще. Твоё воображение — самое твоё большое зло. Он повернулся и пошёл. Последняя фраза, которую она сказала, перед тем, как увидела гриву безумца, цвета чёрной шахматной фигуры: «я буду ждать вас». Он ушёл, чтобы она не смотрела на него больше. Но она итак видела его лицо отчётливо. Примерно так же отчётливо, как мы иногда видим перед собой лицо бога. |
||
КОНЕЦ Шерен Людмила. |
||||||
copyright 1999-2002 by «ЕЖЕ» || CAM, homer, shilov || hosted by PHPClub.ru
|
||||
|
Счетчик установлен 5 февраля 2001 - 1102