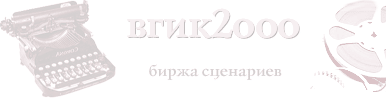
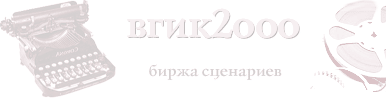 |
||||||
Шерен ЛюдмилаНЕДЕТСТВОроман
|
||
ГЛАВА 1 Школьный звонок прозвенел громко и устало. Тридцать юношеских голов оторвались от своих тетрадей и направили взгляды на дверь, за которой заманчиво скрывались и манили десять минут свободы. Большое жёлтое здание одной из лучших «английских школ» столицы 70- х годов добротно возвышалось среди магазинов, церквушек и скверов центра города. В начале учебного дня, школа становилась похожей на муравейник, недостроенный и одновременно уже давно крепко сооружённый — это была школа, где учились все они: Аня Соврасова, Виктор Гуськов, Танюша Рябушева, Тоня Картошова... Как обычно, в выпускном классе звонок на урок уже не производил никакого впечатления на подростков, занятых величием собственных проблем. В класс быстро вошла учительница, стройная и молодая, почти ровесница своим питомцам — выпускникам 10 «Б». Она мужественно отдавала им свои знания по русскому и литературе и обязана была «классно руководить» ими вот уже в течении пяти лет. — Здравствуйте, начинаем урок, — её голос был высоким и монотонным одновременно, что моментально создавало впечатление не слишком глубокого ума и слишком большой неуверенности. 10 «Б» не спеша, с чувством глубокого к себе уважения, обустроились на своих местах, затухающий гомон мог служить сигналом к началу урока. — Наш класс особенно плох в успеваемости, — как всегда не литературно начала литераторша. — Это не делает чести нашей школе, которая, как мы все знаем — одна из лучших в городе Москве. Вы — выпускники, вы — у всех на виду, вы понимаете это? — она села на стул, скрестив под ним стройные голени, её чёрное сатиновое платье едва прикрывало колени, отточенные и миниатюрные. — Ребята, — её голос прозвучал почти плаксиво — вы ведь меня ставите в неловкое положение, мы ведь с вами одна семья. Пять лет я вас вела, и вот в последний год вы подводите меня так сильно. — Она расстегнула верхнюю пуговицу воротника. — Потом, вам самим это нужно,не мне.... Вы ведь сдаёте экзамены, а как поступать будете, а готовиться, ведь всё это занимает уйму времени? — Начинаются нудные разглагольствования, — прошептала Тоня Картошёва своей новой соседке по парте, которая первый день была в школе, и еще не знала каким невыносимым может оказаться этот, поначалу, безобидный и вполне посредственный разговор. — И так всегда — не унималась Тоня, высокая худенькая шатенка, с большими серыми глазами, безжалостно сверлящими свою красивую собеседницу. Новенькая, слегка улыбнувшись небрежной нежностью, ответила ей на повествования, благодаря за заботу и предупреждения. — Ты хорошо училась там, в той школе? Собеседница повернула белокурую голову к Тоне: — Достаточно — её голос прозвучал низко и весомо на фоне прозрачных разглагольствований классной: нельзя было не услышать. Учительница умолкла и посмотрела на девочку: — Агнесса, вы что-то сказали? Блондинка оторвала чёрные глаза от соседки по парте, на которую всё это время неотрывно смотрела: — Я достаточно хорошо училась. Это всё, что я сказала. Учительница смутилась: — Да, да. Я поняла. Ребята... — и она продолжила свою навязчивую речь. — У тебя красивое имя — Тоня улыбнулась, и на её худых щеках появилось много складок — кто тебя назвал? Агнесса тяжело вздохнула и встряхнула головой: — Мама... Тоня затихла и оглядела собеседницу. Новенькая, со своим странным именем, похожим на название, была красивой блондинкой среднего роста, с чёрными глазами и густыми бровями. Её нос был прямым, с упругими немного расширенными ноздрями, красные губы, блестящие и чуть изогнутые, изображали усталость, а верхняя губа была больше нижней, поэтому нижняя часть лица её как бы обижалась, но огромные, ледяные глаза подавляли и ошарашивали. Она была одета не в школьную форму, как все, а в синее бархатное платье с белоснежными манжетами. Это платье было слишком броским и ярким по сравнению с той массой коричневых и чёрных передников, которые носили школьницы. Агнесса была дочерью человека, занимавшего серьёзный пост в образовании Москвы, её встречал шофёр и в школе все уже знали, о том, что дочь серьёзной персоны теперь учится здесь, что делает статус заведения еще выше. Отчасти с этим было связанно волнение классной руководительницы. — Дети, — обратилась классная к своим «почти ровесникам», — вы все знакомы с нашей новенькой? — Я еще раз вам представлю её. — Она жестом руки попросила Агнессу встать. Девочка медленно подняла на классную ресницы и встала. — Познакомьтесь, кто еще не знает — литераторша глупо улыбнулась — Агнесса Миланская. — произнесла она почти торжественно. Последняя легко кивнула головой и, осмотрев класс, села на место. Её соседка Тоня Картошёва была худая и высокая, с большими серыми глазами, аккуратными губами с маленькой чёрточкой под ними, и прямым длинным носом, узким и чуть вздёрнутым. Волосы Тони всегда были убраны в косичку или в корзиночку, как носили многие школьницы того времени. О себе Тоня имела представление как о лидере, «авторитете для советов» разного рода. По ее собственным словам, иногда ее «заносило», но Тоня серьезно относилась к собственному воспитанию и старалась придерживаться некоторых принципов по которым жила, дружила, управляла собой и другими. Прозвенел звонок с последнего урока. Агнесса посмотрела на часы: — Как рано, — она сказала это раздосадовано, потому что шофёр должен был заезжать за ней только через два часа. — Пойдём, займем твое время, если желаешь — я познакомлю тебя с моими подругами — Тоня взяла новенькую за рукав и повела за собой по коридору. В конце коридора у кабинета изобразительного искусства сидели Тонины одноклассницы. — Чего мы ждём? — дружелюбно спросила она, подходя к девочкам и, не дожидаясь ответа, тоном литераторши продолжила, — кто еще не знает — Агнесса Миланская, прошу любить и очень жаловать. С этими словами Картошёва деловито пододвинула к себе Агнессу, которая всё это время стояла за её спиной, двумя руками держа портфель, и оглядывая одноклассниц. — Познакомься, пожалуйста, это — Таня. — Она показала на черноволосую девочку и посмотрела на Агнессу. — Агнесса — новенькая протянула руку и наклонила голову, показав пробор на правую сторону. — Таня Рябушева. — Девочка улыбнулась, покраснела и отошла. — А это — Лена, — сказала Тоня, пододвинув к себе стройную темноволосую девочку с короткой, почти мальчишеской стрижкой. Лена оглядела Агнессу и, не протянув руки, просто кивнула головой. Таня Рябушева в это время уже суетилась вокруг учительницы искусства, объясняя своим ангельско-нежным голоском, какие декорации им нужны для надвигающегося выпускного спектакля. Агнесса внимательно оглядела её с интересом и скрытым умилением. У Тани было вечно весёлое и приветливое выражение лица, её чёрные волосы завивались густыми локонами, достававшими ей до плеч. Почти квадратные, глубоко посаженные глаза были светлыми и солнечными, маленький носик, вздёрнутый с немного кривой переносицей и тонкие губы — всё делало её лицо очень женственным и милым. В классе её любили все, называли или ласкательным «Танюша» или с нежным юмором «ангел наш»: у Тани Рябушевой была роль «чести и совести» 10 «Б». «Покончив» с учительницей, Таня повернулась к Агнессе и, будто не прерывала общего разговора, продолжила — Наша классная умеет великолепным образом все доводить до уровня собственных способностей — посредственно, громко и глупо; уж лучше мы сделаем всё сами... — Да и мне показалось, что она не слишком... — усмехнулась Агнесса и обвела взглядом пол вокруг себя. — Она любопытная, добрая и неопытная, все нам в подружки набивается, а её нужно было малышам отдать — росли бы и развивались вместе — Танюша посмотрела на Агнессу, — ты ведь раньше училась не в Москве? — Я училась в Америке, потом переехала в Ленинград, и только недавно приехала к отцу в Москву. — В Америке хорошо? — Таня при этом взглянула на слегка загорелое лицо собеседницы и покраснела. — Везде одинаково, дело в людях... — Да, наверное. К ним подошёл мальчик, высокий и смуглый. Его чёрные густые волосы были коротко подстрижены и так плотно прилегали к голове, что, казалось, давили на нее, лицо было скуластым, острый нос с упругими ноздрями слегка опущен, губы очень сильно изогнуты в виде лука, а голубые глаза — насмешливые и взрослые.. На юноше был тёмно синий пиджак от костюма, в последнем классе им уже разрешали носить свои пиджаки: то ли в пиджаке, то ли на самом деле, он был достаточно внушителен в плечах. — Привет, Гуськов — пригласила молодого человека к общению Танюша. — Привет, Танюш, Аня просила зайти к ней. — Ей совсем плохо? — Нет, наоборот, гораздо лучше, скоро выйдет. — Я обязательно зайду. Познакомься, это Агнесса, — она слегка тронула коленки новенькой. Агнесса внимательно проследила за её движением, и, улыбнувшись по этому поводу, кивнула юноше головой в знак приветствия и знакомства одновременно. — Очень приятно, Виктор, — он смущённо улыбнулся, но оглядел Агнессу — Привет и пока, — дела. Подошедшая Тоня провожая Виктора взглядом обратилась к Танюше: — Как ты думаешь, он женится на Аньке? Таня засмеялась и сразу же стала серьёзной: — Аня не выйдет за него. — Это почему, любви что ли мало? — Да нет. Ты представляешь, им же всю жизнь вместе... Да ну, что за глупые разговоры. — Танюша была лучшей подругой Ани Соврасовой и в любой момент, когда речь шла о ней, она принималась обсуждать эту проблему с невероятной важностью, будто от её мнения могла зависеть судьба подруги. — Мне было приятно познакомиться, — обратилась Агнесса к Тане Рябушевой, полностью повернувшись к ней своим красивым лицом и, чуть надув ноздри, улыбнулась обворожительной приветливостью, легко обнажая крупные ровные зубы. — Мне тоже, даже очень, — Танюша наклонила голову набок и мигнула обоими глазами. Агнесса завернула на лестничную площадку и быстрым лёгким шагом принялась спускаться, слегка касаясь перил: " Эта девушка интересна и даже очень хороша... " — подумала она, смотря ледяными глазами в стенку... |
||
* * * — Да — говорила Тоня Кортошёва, пожирая Агнессу глазами, и то и дело поправляя на её спине маленький, завитый хвостик — Аня тебе очень понравится. Она лидер в нашем классе. Не только староста, а просто золотая середина компании. Ты полюбишь её, её не возможно не полюбить, очень волевая девчонка, сильная и принципиальная, просто восхищает собой. Агнесса слушала ее, слегка улыбаясь, и не моргая, смотрела на свои руки, лежащие крестом на парте. — Ты знаешь — Тоня продолжала в упоении и гордости за то, что её слушают — она не была такой. До восьмого класса, она вообще была тихоня, её не замечали. Такая прилежная, знаешь, отличница — ударница. А после восьмого, летом, её как подменили. Совсем другой человек. В девятом классе её просто не узнать стало. Не знаю, что на неё так повлияло, но она просто фундаментально изменилась, всё как будто перевернулось в ней. Мы до сих пор с девчонками часто об этом говорим и просто удивляемся, что-то неестественное с ней случилось. Ну, ты знаешь, сразу стала такой самой активной комсомолкой, всякие там собрания, и так далее, это еще ладно. Она просто, как человек, настолько другой стала. Такая личность... Просто сила. У нас все с неё пример берут, весь класс её обожает... Да ты просто влюбишься в неё. Агнесса с улыбкой посмотрела на Тоню: — И ты её любишь? Тоня не слишком искренне любила Аню Соврасову, потому что та подбила её лидерство в классе, но восхищалась она ею по праву очень сердечно. — Ну конечно, а почему ты спрашиваешь? — А тебе — то, как раз, наверное, и не очень на руку её лидерство... — Агнесса серьёзно посмотрела на Тоню. Та залилась краской, и как будто что-то ошпарило её со спины. Агнесса смотрела на нее, не мигая, впиваясь чёрными холодными глазами и всё больше смеясь ими, вжимала в стенку. Тоня еле отвела от Агнессы взгляд и, сдерживая эмоции, встала из-за парты: — Ну ты... с т р а н н а я... — сказала она, растягивая слова, и вышла из класса. Через секунду в кабинет влетела Танюша Рябушева, а за ней вошла темноволосая девушка, среднего роста, стройно сложенная с маленькой кичкой на голове и пробором. Её зелёные глаза обрамляли длинные чёрные ресницы, а брови почти не разъединялись и образовывали галочку. Цвет лица был смуглый, нос аккуратный немного расширенный книзу и слегка приплюснутый, как у цыганки, а губы — вишнёво-алые, улыбчивые. Её походка была лёгкой и медленной. Она прошла к средней колонке на предпоследнюю парту и положила туда свою сумку. Её сразу же окружили девчонки. Агнесса с равнодушием отвела взгляд от толпы одноклассниц, и уже хотела выйти, как Танюша вдруг подбежала к ней, приведя за руку только что вошедшую. — Вот, Анют, это наша новенькая. Агнесса оторвала взгляд от пола и подняла голову с пробором на правую сторону.Она оглядела девочку, и широко раскрыв чернющие глаза, приподняла брови: — Соврасова? — её голос звучал уверенно — побеждено. — Агнесса?! — девочка оторопела и чуть отшатнулась назад, её глаза смотрели тепло, искренне и преданно на ледяные глаза напротив. Таня удивилась: — Так вы знакомы? Вот здорово. Агнесса посмотрела на Танюшу, и улыбнувшись одним краем губ, вышла из класса. Аня плюхнулась на парту и долго ничего не говорила, смотря в пол. На какие-либо Танины слова она не обращала ни малейшего внимания, а всё, нахмурив брови о чём-то думала, наконец она подняла голову: — Она давно пришла в класс? — Да вчера. — Она же в Ленинграде... — Аня замолчала. — Да — оживилась Танюша — она совсем недавно приехала из Ленинграда сюда, по-моему к папе. — К папе? — Аня удивилась — да, да, к папе... — она как-то забыто улыбнулась и,одёрнувшись, подняла голову. Перед ней стояла Агнесса, улыбаясь и показывая свои жемчужные зубы: — Извини, я здесь сижу. Аня встала, исподлобья смотря на новенькую: — Я не знала, что ты когда-нибудь приедешь в Москву. Агнесса села за парту: — Я не знала, что мы когда-нибудь встретимся вновь... |
||
После уроков все пошли в маленькую комнатку, отведённую для собраний или просто тусовок. Там были: Тоня, Танюша, Аня Соврасова, Лена Ходунова и еще несколько девочек из параллельного класса. Все обсуждали предстоящиё новый год, и вечер, который устраивался по этому поводу. — Ань, да что ты сегодня, как в воду опущенная? — удивлённо спрашивала Тоня, подозревая, что это связанно с приходом новенькой в класс. Вдруг кто-то оживился: — Кстати, а почему новенькая не пришла на собрание? Аня засуетилась: — Не знаю, может быть у неё дел много. Ой, оставьте её в покое. Анино волнение удивило всех, болтать расхотелось, стало скучно. Когда уже расходились, Аня вдруг задержала Тоню за локоть: — Пойдёмте ко мне. Таня услышала разговор: — Да, и правда, все вместе, пойдём. У тебя нет никого дома? — Нет, родители приходят поздно, может Витя зайдёт часам к шести, но это даже лучше. Они долго ехали в троллейбусе. Аня сидела с Тоней, что-то ей оживлённо рассказывая, а Танюша Рябушева с Леной. Они ехали по многолюдной Москве, смотря в окна на её красивые родные улицы. |
||
* * * — Ну ты даёшь, Тонька, — смеялась Танюша, наливая из большого фарфорового чайника заварку. — Так же нельзя, тебе не разрешат. — Почему не разрешат. Аня вошла в комнату в синем халате и с ногами уселась в кресло: — Что не разрешат? — На вечере Новогоднем придумать какую-нибудь игру, знаешь, такую азартную. Ну там типа бутылочки, или что-то в этом роде. Таня опять засмеялась: — Представляешь себе такое? — она посмотрела на Аню. — Ну мы же комсомолы — Аня взяла со стола альбом с фотографиями. — Ну а причём тут твой замечательны и горячо любимый комсомол, Аня? — усмехнулась Лена Ходунова — мы просто — молодёжь и имеем право поразвлекаться!? Аня не ответила на вопрос: — А кто смотрел фотографии? — она показала на открытую страницу, где беспорядочно лежали фотографии. — Мы вообще посмотрели, но альбом здесь лежал — Таня поставила чайник на стол и посмотрела на Тоню. Они переглянулись: — Да. Кстати там фотография — это вы с... — Тоня не договорила. — Да, да, с ней. — Аня нервно вытащила фотографию и посмотрела на неё. На небольшом чёрно-белом снимке была изображена белокурая девочка с распущенными волосами, достающими ей до плеч и пробором на правую сторону. Она сидела на соломенном стуле, положив руки на его ручки и смотрела исподлобья. Рядом с ней, держа её за плечо стояла Аня в тёмном платье и улыбалась весело и живо. — Вы давно дружите с Агнессой? — спросила Таня. — Мы познакомились летом два года назад. — А ты о ней не рассказывала. — Потому что мы не общались больше. — Как? — Ну я уехала в Москву. Мы не виделись больше... Нет, вернее, мы просто, ну как... — она недоговорила — долго рассказывать. Больше об этом не разговаривали, Аня убрала альбом, и пошли бурные обсуждения предстоящего вечера, будней, и вообще просто девичьи разговоры. Комната наполнялась серым, тёплым ноябрьским вечером. Настенные часы пробили семь часов. Лена Ходунова одевала пальто и поникшим голосом говорила: — Ну конечно, я бы ещё посидела с вами. Просто мама уже заждалась... — все слушали её, скучно оглядывая как она одевается. Когда дверь за ней закрылась, Аня глубоко вздохнула тёплый воздух комнаты: — Девочки, я вздремну, вы только не уходите на кухню. Оставайтесь здесь сколько угодно, мне не мешают разговоры.. Она легла на диван и укрылась клетчатым мягким пледом. За окнами тихо свистел вечерний ветер, в комнате пахло выпитым кофе и кипяченым молоком.. Аня уже почти засыпала, её веки устало беспомощно подёргивались и дыхание становилось спокойным. Сквозь полу дрем она слышала Тонин голос: — Ну ты знаешь. Есть такие, просто сильные сами по себе личности. А эта вообще каким-то магнетизмом обладает. Анька сама сказала, знаешь, что-то даже мистическое... — её голос звучал глухо и как будто издалека. Ане хотелось поднять голову и вмешаться в разговор, но сон опередил её, и она по-детски засопела, выдыхая красивым полуоткрытым ртом. Тоня осторожно посмотрела в её сторону и с умилением качнула головой: — Сопит, как ребенок. Таня Рябушева, которой было не до подруги, не повернув голову, продолжала беспокойно смотреть на Тоню, её руки напряжённо комкали салфетку, и она, нахмурив брови смотрела то на неё, то на свои стройные пальцы. — Подожди, она что, — сама так сказала? — Таня нервно повысила голос. — Тише ты, да. Ну понимаешь, я сама удивилась. Не знаю что с ней случилось, просто сидела сама не своя, вдруг повернула голову, посмотрела на меня, как-то жалостливо, я вообще такой её не видела, и начала всё рассказывать. — Ни с того, ни с сего? — Да. Сразу говорит помнишь, как я тогда приехала после лета в 71 — ом, когда мы все в 9-ый шли? Да, говорю, тебя тогда, как подменили, мы все удивились. Ну она так, знаешь, помолчала, так это всё из-за неё, говорит. Я не поняла сначала. Потом она как начала рассказывать, и знаешь, с таким серьёзным лицом, она редко так говорит, только если о Витьке. — Что она говорила? — Танин голос звучал всё беспокойнее. А Картошёва, делая над собой усилие не показывать как ей льстила эта заинтересованность, продолжала медленно, монотонно пережёвывать сахарное печенье: — Ну, в общем, познакомились они я не знаю как. Аня в Ленинград на каникулы тогда приехала. А Агнесса там жила с мамой. Познакомились, просто начали дружить. А потом Анька начала замечать, что она становится другим человеком, просто совершенно меняется. И главное эту новенькую, ну Миланскую, просто любить начинает, как сестру, как очень близкого человека. Ну, постоянно думает о ней, — Тоня взяла ещё одно печенье — понимаешь? И, говорит, так привязалась,что просто, такое ощущение, что она всю жизнь с ней знакома была. — Тоня вздохнула — Такая самоотверженная дружба, — это была уже её добавка — Анька говорит, я за неё и в огонь и в воду была готова... Таня покачала головой, в упор смотря на спящую подругу, и с восхищением прошептала: — Настоящая комсомольская дружба... У нас такой никогда не было. Тоня удивлённо подняла на Рябушеву глаза: — Да никакая это не комсомольская дружба. — А что, по-твоему? — Таня помолчала, и почти с укором, прищурив глаза вопрошающе произнесла — Преклонение, скажешь. Тоня любила это слово, и часто с пренебрежением опошляла им чьи-нибудь отношения. Она помолчала: — Да нет. Ну, понимаешь, Аня сама сказала... — Что? — Ну, как-то, нет, не преклонение, конечно. — Слушай, Картошёва, хватит. Это слово к кому угодно можно отнести, только не к Ане. Ты же сама прекрасно понимаешь. — Да, понимаю. — Что она сказала?- Танюша протянула руки на столе и заглянула Тони в глаза. — Ну, как-то она сказала... — Тоня замялась — Я, в общем сама не поняла. Ну, ты знаешь, когда вот это сказала.. — Да что? — Да я не помню, не поняла... Только потом так помолчала, и говорит: «Не сотвори себе кумира ». Я так удивилась. Таня молчала: — А дальше. Тоня откусила печенье и налила уже давно остывшее молоко в чашку: — Потом про Витю начали говорить. Она только опять как-то странно его с этой Агнессой примешала. В общем, я не поняла. Да, ты знаешь, у неё просто шок. Она не ожидала, что Агнесса приедет в Москву. Она думала, они не увидятся больше. У неё тут отец, ну этот, который в системе образования — большая фигура. Так они разведены с её мамой. И Анька сказала, будто Миланская своего отца ненавидит. Ну это не важно. — А как они расстались? — Таня оперлась на локти и пододвинулась ближе к Тоне. — Анька хотела тогда, тем летом остаться до сентября. Потому что у Агнессы в сентябре день рожденья. 12-ого, по-моему, я не помню, Анька произносила тогда какую-то дату. Ну вот. Хотела остаться, но не смогла.... Она больше ничего не сказала. — Картошёва помолчала — Вот так. Они долго сидели в молчании, каждая думала о чём-то своём, Таня тяжело вздыхала и то и дело смотрела на спящую Аню Соврасову. Та лежала, свернувшись в комочек, дыша себе в ладони. — Какая беспомощная — прошептала она, и удивилась своим словам. Часы громко тикали, наступал восьмой час, за окнами было уже совсем темно. Из дома напротив доносилась музыка, в комнате всё так же пахло кофе и молоком. Казалось, что на какое-то мгновенье время остановилось... и каждая секунда медленно пропадает со стуком капли, ударяющейся звонко о железную раковину на кухне за стенкой... |
||
* * * Уже к пяти часам после полудня, весёлая компания сидела в комсомольской комнате, весело обсуждая предстоящий новогодний вечер. Только Витя Гуськов скучал, он сидел рядом с Аней, безынтересно уставившись в свои ботинки, то и дело усмехаясь новым предложениям, поступавшим от девчонок. — Нет, товарищи, я считаю, что прежде всего мы обязаны позаботиться об учителях — говорила голосистая смуглая девочка, небольшого роста с голубыми бантиками на хвостиках. — Это наш вечер — взорвалась Тоня Картошёва, — почему мы должны думать о них? Аня укоризненно посмотрела на неё, и тихо сказала: — Маша права, учителя обидятся, если мы не сделаем для них ничего. Тоня хотела что-то сказать, на Танюша Рябушева перебила её: — Какая же ты всё-таки, Тоня... — она взглянула на Картошёву, и сразу же обратилась к Ане — Анют, я предлагаю разыграть... — она хотела сказать, что было бы неплохо разыграть маленький спектакль о школьной жизни их класса, но посмотрела на Аню и поняла, что она не слушает. Соврасова напряжённо смотрела в сторону двери, не мигая своими красивыми глазами. Все замолчали. За дверью слышался чей-то голос. Через секунду она распахнулась, и на пороге появилась Агнесса Миланская в школьной форме, которая сидела на ней, как бальное платье и красила ещё больше, с распущенными завивающимися книзу волосами и традиционным пробором на правую сторону. Она весело оглядела комнату, и прошла к окну: — Прошу прощения за то, что опоздала. Кажется мы собирались к пяти? — она вопросительно посмотрела почему-то на Машу, девочку с голубыми бантиками по бокам. Та смущённо пожала плечами: — М-мх. Тоня быстро начала предлагать какие-то свои инициативы, обращаясь то к Тане, то к Агнессе, то к Ане Соврасовой. — А пусть Витя сыграет на гитаре. А? — вдруг предложил кто-то. — И правда — все оживились — и споёт. Аня повернулась к нему, по-матерински заглянув исподлобья: — Ну что, Витюш, сыграешь? Он растаял под таким вниманием, и смущённо улыбнувшись упругими губами мотнул головой — Если так просите — эта покорность делала его очень милым, и шла его мужественному лицу. Агнесса улыбнулась одним краем губ, и, блеснув глазами, наклонив голову на бок спросила: — Музыкант? Витя быстро повернул голову в ее сторону и, мельком взглянув на Аню, нечаянно опрокинул стакан с водой, стоявший рядом: — Да. Будущий — он быстро поднял стакан и улыбнулся. — В консерваторию поступаешь? — спросил кто-то. — Если получится. — А я хочу художницей стать. — оживившись, сказала смуглая голосистая Маша — в Ленинград поеду, в Мухинское поступать. — Почему в Ленинград? — спросила Агнесса. Маша опять смутилась, не понимая почему эта новенькая, дочка какой-то важной персоны так много уделяет ей своего внимания: — У меня там мама живёт. — А я в МГУ пойду — на журналистику — гордо заявила Картошёва. — А ты, Танька, не решила ещё? Танюша Рябушева всё это время исподлобья наблюдала за Аней, и поэтому всполошилась, когда Тоня обратилась к ней: — Ну нет, почему, знаю уже. В экономику, или торговлю. Анька, на английский идёшь? — она улыбнулась. Соврасова качнула головой, и уже хотела изменить тему, как Лена Ходунова вдруг посмотрела на Агнессу: — А ты куда идёшь? Та стояла, опершись ладонями на подоконник, разглядывая с интересом стоявшие рядом барабаны и красное знамя, воткнутое в специальную подставку. Она повернула голову, и устремила дружелюбный взгляд на девочку: — Ты что-то спросила? Аня, смотря в пол, тяжело выдохнула. Тоня Корташёва и Таня переглянулись. Воцарилась жаркая, напряжённая тишина, где каждый вздох казался оглушающим. Лена удивлённо повторила вопрос: — Куда ты поступаешь? — Во ВГИК. — Агнесса неотрывно смотрела на собеседницу, вытягивая из неё дальнейшие вопросы. — Правда? — все оживились, восхищённо смотря на новенькую, и даже придвинулись к ней поближе. — Актрисой хочешь стать? — в голосе чувствовалась добрая зависть и девичье любопытство. — Нет — Миланская продолжала смотреть на Лену, сдерживая улыбку, обласкивая её чёрными, слегка подведёнными ресницами кверху глазами. — А кем??? Агнесса неотрывно изучала собеседницу высоко подняв подбородок и слегка вытянув красивые до нельзя губы. Опять воцарилось молчание, всем было жутко интересно кем хочет стать новенькая, богатенькая дочка важной персоны. Та не заставила себя долго ждать. Она повернула голову в окно, и, не смотря в лица напряжённых одноклассниц, иронично выдохнула: — Дрессировщицей. — её голос прозвучал ласково, почти по-матерински, будто хотела сказать: «Дурочка, такие вещи пора уже знать.» Ходунова обомлела: — К — какой дрессировщицей? — В цирке. Зверюшек дрессировать. Все удивлённо переглядывались, «Странная новенькая» — шепнул кто-то. Аня поджала губы и, вскинув голову, посмотрела на стоящую у окна Агнессу, та медленно перевела взгляд на неё, и ответила на Ленин вопрос: — Очень люблю зверей... Очень. — Тогда не дрессировать их надо, а питомники создавать — сказала Маша, жалостливо посмотрев на новенькую. На её вопрос никто не ответил, всё поспешили бурно перейти к другой, совсем не относящейся к предмету разговора, теме, а Агнесса только улыбнулась заботливой Машеньке, качнув головой в знак согласия. ... К семи часам вечера решили, что будут ставить спектакль о школьной жизни, всех распределили по ролям, и решили расходиться. Тоня пошла с Таней Рябушевой. Соврасову провожал Гуськов. Когда они отошли от школьных ворот на несколько метров, Аня, облокотившись рукой на Витино плечо, остановилась: — Витенька, извини, я сама дойду до дома. Он недоумевающе посмотрел на неё. — Просто мне ещё в одно место нужно. — Как хочешь. — он легко и нежно поцеловал её губы и, развернувшись на 180, быстро пошёл в обратную сторону. Рябушева с Корташёвой удивлённо переглянулись и, не решаясь подойти к Ане, медленно побрели в сторону небольшого сквера с множеством скамеечек и клумб с цветами — все состоявшееся следовало обсудить. Уже почти около дома Агнессу нагнала Аня, тяжело дыша и блестя вишнёвыми глазами. — За тобой не угнаться. Какими ты темпами ходишь. Агнесса дружелюбно-умилённо улыбнулась, и убрала Анину руку со своего плеча: — А ты не бегай. Соврасова отдышалась, в голосе появилась усмешка и явное недовольство: — А я и не бегаю, я догоняю. Агнесса опёрлась на дерево, стоявшее рядом с её парадной и, сложив руки на груди посмотрела на Аню: — Красавица. Ветер растрепал её белокурые волосы, но пробор чётко оставался., Аня изучала его глазами, прищуривая их и расширяя: — Ты не изменилась. — Зато ты значительно похорошела. — Может быть такой я буду больше тебе нужна? Аня вспомнила то лето, Таврический садик, предпоследний день Августа, была примерно такая же погода и она также смотрела на этот пробор. Как в громкоговоритель слышался голос из прошлого, голос Агнессы: «Ты не нужна мне, Аня, ты слишком моя, нельзя же так себя издаривать...» — слова, которые запали в её душу на всю жизнь, все последние два года она жила с этой мыслью. «Ты не нужна мне, Аня» — слышала она каждый раз, когда что-то не получалось, валилось из рук, и жизнь останавливалась. Яркий голос Миланской вернул её из грёз в реальность: — Ты думаешь, многое изменилось? — Я знаю это, Агнесса. Знаю, а ты нет. Но я тебе докажу. Агнесса стала совсем серьёзной, глаза впивались в каждую черту лица, каждый сантиметр. — Не сможешь. Ты — моя плоть и кровь. Аня выронила сумку, она больно упала ей на ноги. — Что теперь, от того, что ты была мне роднее моей собственной матери, от того, что я готова была жизнь отдать за тебя, и казалось уже, что с ума сошла от непонимания своего чувства... теперь ты думаешь я не смогу выкинуть тебя из себя, стереть из памяти? Да, я была твоей кровью, но я смогу выйти из тебя... Агнесса сжала скулы: — Только кровью же и выйдешь. — Нет — её губы дрогнули — о чём ты говоришь? — Выпусти из меня кровь, и ты не будешь больше мне принадлежать. Но только придётся выпустить её всю. — Я ненавижу тебя, сумасшедшая. — Ты такая же... — Миланская усмехнулась — Доченька. — Я знаю, знаю...Ничего — Аня вдруг неожиданно ослабла, она сжала пальцами виски, посмотрела на свои туфли, перевела взгляд на ноги Агнессы. Последняя стояла плотно поставив ноги вместе, их приподнимал небольшой каблук, голени упруго обтягивала основа из чёрной кожи с плотной шнуровкой. — Ничего — повторила она уже тише — главное что ты есть у меня. Ты опять здесь. Агнесса наклонилась, заглянув Ане в глаза и взяла её за подбородок: — А без меня тебе было трудно... — А без тебя меня не было. |
||
* * * ... В полутёмной прихожей семикомнотной Агнессиной квартиры стояли высокие чёрные полуботинки со шнуровкой и рядом туфли с металлическими кнопочками. Они сидели друг напротив друга, одна — на диване, другая — в глубоком атласном кресле. Аня держала в руках чёрно-белую фотографию, выполненную, как портрет, с изображением светловолосого мужчины в военно-морской форме, не очень молодого, но с выразительными чертами строгого лица. — Ты так его и не видела? — она обращалась к Агнессе, жадно осматривая её силуэт в темноте комнаты и тусклом свете настольной лампы. — Он погиб в автомобильной аварии год назад. — А я не верю, что ты его любила. Агнесса усмехнулась: — Я тоже. Просто он был единственный, кто смог тогда поставить отца на место. — Она помолчала — Это ведь он заявил на него в суд. Как я глубоко жалела, когда дело оправдали. — Никогда не понимала за что можно так ненавидеть собственного отца. — Как он мою маму истерзал, никто, наверное, никогда не узнает. Все они одинаковы. Ни один мужчина не достоин любви, а знаешь почему? Потому, что они все твари...Они думают, что если Бог — мужчина, значит им всё дозволено. Вот какова их сущность. Хамы, поверхностные, скудные богохульники. Близорукие зазнавшиеся фараоны... Аня смотрела на неё стеклянными глазами: — Ты сказала про Бога. Ты веришь в него? Агнесса саркастично усмехнулась: — Я? Как ты думаешь, в какого Бога я могу верить? А ты... комсомолка, ещё одна слепая среди серой массы? Соврасова встала с кресла и медленно подошла к подоконнику: — А кто тебе сказал, что я комсомолка? — Ну если не верующая, значит — комсомолка. Третьего не дано. Аня стояла к Миланской спиной, гладя указательным пальцем по колючкам большого кактуса, занимавшего часть подоконника: — А я в другое верю. — Да? — В жизнь. Вот в неё я верю, но только если она наполнена чем-то. — Или кем-то — добавила Агнесса низким голосом. Аня посмотрела на неё: — Или кем-то. — Вот и я также думала. Чужая душа всегда кажется спасительной. Я видела в нём душу. Наверное, она выскочила, когда его посадили на инвалидную коляску. Только так в них рождается что-то человеческое. Когда тело отнимают, приходится показывать душу, чтобы выжить. — Какая жестокость. — Мы с ним очень много говорили, — продолжала Агнесса — я думала, что нашла эту единицу, и смогу теперь от неё оттолкнуться. Я думала, что это — новое чувство, или просто он был очень похож на маму, но оказалось — нет. Я потом поняла, что если человек физически полноценен, он инвалид внутри себя, а с ампутированной ногой, ему возвращается душа. Так положено...Компенсация. — Да почему ты судишь о них обо всех одинаково, почему ты подводишь их под одну черту? — А по кому мне ровняться? Только по родному отцу. Это же идеал мужчины для девушки — её отец. А мой отец — тварь. Богатая, откормленная тварь, плохо воспитанная и необразованная. — А ты не задумываешься о том, что не все они такие... как твой отец? Агнесса долго смотрела на Аню, она стояла у окна, держа себя за локти и впиваясь в её силуэт. — Что ты молчишь? — Не из одного мужчины я бы не сделала то, что смогла сделать из тебя. И хотя бы уже поэтому, они не нужны мне... Аня молчала, она разглядывала с непонятным вниманием голени Агнессы, долго проводилась взглядом по их упругим мускулам, одетым в чёрные чулки. И наконец сказала: — Агнесса, я должна идти. Меня ждут дома, я обещала быть раньше. Но то, что ты сказала, ты подметила совершенно точно. То что ты из меня сделала, не подлежит никакому объяснению, ты вживила себя в меня, ты превратила меня в свою кровь и заставила в это поверить, да, моя вера — это жизнь, а если это жизнь, то это — ты. Но я хочу, чтобы ты знала, что я существую отдельно от тебя, потому что мы — сёстры, но не всю жизнь мы будем вместе... — она замолчала, обессилено опустив руки. Агнесса дерзко впивалась в неё своими чёрными глазами, это был взгляд не упрекающий и не сожалеющий, а говорящий о своей силе и извергающий её, а это было самое страшное... |
||
ГЛАВА 2 На уроках Агнессу почти не спрашивали, или спрашивали крайне редко. Как-то на литераторша спросила её, кто по её мнению был Вольтер. Она только вздёрнула брови, и не отрывая стальных глаз от литераторши, ответила с пренебрежением и дерзостью: «Альфонс...» — её неуважение к мужчинам высказывалось в любой реплике и даже мимолётном взгляде, это отталкивало и заставляло бояться. С тех пор, посовещавшись на педсовете учителя решили Агнессу Миланскую не спрашивать на уроках вообще. Этот день был каким-то странным. После уроков все остались в кабинете литературы для обсуждения Нового года. Ребята сидели попарно за широкими коричневыми партами, Мария Романовна, глупая и молодая классная, нервно объясняла как именно следует проводить вечер, и какую роль каждый из учащихся должен выполнять. — И повесить лозунг на дверях в актовый зал — говорила она громким голосом, как на партсобрании — мы должны придумать какой. — Да здравствует кукуруза! — крикнул чей-то весёлый мальчишеский голос, и класс дружно засмеялся. — Ребята, а если серьёзно, кто будет этим заниматься? — продолжала классная с досадой и наигранной строгостью. — Агнесса, почему вы не принимаете участия в делах класса? — обратилась она к Миланской, застенчиво глядя на неё. — А меня они не интересуют — при этих словах Агнесса дружелюбно улыбнулась и склонила набок белокурую голову с пробором направо. — И плохо — классная побоялась говорить это именно Агнессе, и поэтому она обратилась ко всему классу — ребята, это очень плохо, что не все заинтересованы в делах собственного класса. Не может же всё решать только классный руководитель и староста, — учительница с надеждой посмотрела на Аню Соврасову. Та встала и развернулась лицом к одноклассникам: — Ребята, ну мы же договорились вчера обо всём. Кто принёс Вознесенского? Васильев, ты обещал принести Окуджаву. Мы вчера всё обговорили, Мария Романовна — обратилась она к классной, которая стояла в полнейшем изумлении от того, какая тишина наступила в классе, когда начала говорить староста. — Ну так давайте приступать прямо сейчас. Агнесса, вы умеете читать стихи? — обратилась учительница опять к Миланской. Она постоянно пыталась вовлечь её в постановку праздника, надеясь тем самым завоевать её симпатию. Агнесса сидела на предпоследней парте, облокотившись на спинку скамейки и сложив руки на груди. Её голова была утрированно запрокинута и длинная шея образовывала дугу. — Да, я читаю стихи — ответила она, почти не меняя своего положения — но исключительно для себя. Классная пришла в недоумение: — А почему бы вам не попробовать прочесть что-нибудь для класса? — Я считаю это самообнажением. — ответила девушка. На такие слова глупая учительница открыла рот, и в непонимании посмотрела на Соврасову, как всегда делала, когда нуждалась в серьёзной поддержке. Она любила полагаться на старосту класса. Потому что Соврасова, то ли от того что её любили, то ли от какой-то непонятной уверенности, не имела страха ни перед чем, за какими-то совсем редкими исключениями. А, как известно тот, кто ничего не боится, может прекрасно утешить. И Аня обладала подобным даром. К своему несчастью, учительница не догадывалась, что в данный момент Аня не сможет многим помочь, потому что в классе находится именно то самое совсем редкое исключение, которое умело останавливать. Агнесса встала из-за парты и низким голосом сказала: — Я прошу прощения, мне хотелось бы выйти. Классное собрание начало приобретать характер серьёзного конфликта, которые возникают между личностью и глупостью, пользующейся приоритетом своего должностного положения. — Агнесса, — почти плаксиво начала классная — вы же — комсомолка! — Вы ошибаетесь. — А ты не... — она глупо замолчала — ты разве не смогла вступить в комсомольскую организацию? — Я не сделала это по собственной инициативе. — Агнесса стояла вытянувшись стрункой, держа обеими руками папку. — Почему же? Миланская долго смотрела на свою учительницу, оглядывая и истерзывая взглядом каждый сантиметр её лица, потом, наконец, остановившись на глазах — маленьких и бесцветных, она, с нескрываемым сожалением, которое испытывают к бездомной собаке, произнесла: — Мне не захотелось быть лидером в этом стаде, — с этими словами она нетерпеливо вышла из класса. Уже у самой лестничной площадке её догнала Аня: — Почему ты такая злая к людям? — спросила она, когда Агнесса обернулась. Мёртвое красивое лицо последней исказилось мимикой боли и сожаления: — Потому что меня отвращает их жизнь. Я ненавижу эту стадность которой они живут, их традиции, их идолопоклонничество, глупую унизительную маску вечного счастья. Мне опостыли их животные инстинкты, находящиеся на самом примитивном уровне человеческого сознания. Я презираю их образ жизни...Они мне чужие. — Но, они такие же,как ты. — Аня бессильно смотрела на Агнессу, переводя взгляд с одного её глаза на другой. — Я всегда была далека от них. Все эти глупые жизненные ценности над которыми довлеет большей частью общественная серость, нежели индивидуальные цели, все они так ничтожны, что я втаптываю их в грязь, и презираю каждого, кто пытается доказать мне мою неправоту. Поверь, глупая, я больше тебя знаю, потому что слишком часто была не права... — она развернулась и спокойно стала спускаться. Аня смотрела ей вслед с красными от напряжения и готовности расплакаться глазами. Она знала, Агнесса во всём была права и её так тянули эти новые, такие не похожие на всю эту жизнь, внутренние силы, что она боялась совсем обессилеть, и, потеряв веру, слиться воедино с этой беспощадной, обладающей несказанной мощью душой. |
||
* * * Аня сидела на скамеечке возле школы. Её ноги были поджаты под неё, руки теребили кончик чёрного короткого пальто. Она то и дело смотрела на часы, потому что ждала Танюшу, которая с минуты на минуту должна была подойти. Когда она услышала маленькие семенящие шаги, то улыбнулась, но головы не подняла. Таня подбежала, запыхаясь, и с раскрасневшемся от лёгкого ветерка лицом, озадачено спросила: — Куда пойдём? — Не знаю, — ответила Аня, стараясь скрыть душевное волнение и недовольство. — Ну ладно. Тогда, как всегда, в «Минутку». — она вопросительно посмотрела на Аню, которая уже вставала, и слушая её только краем уха, чему-то улыбалась. «Минутка» была просторная и уютная. С большими прозрачно вымытыми окнами, круглыми столами с красными скатерками и запахом вкусного дешёвого какао. Они сели, как всегда, за столик у окна. — Таня, я слушаю тебя. — Сразу начала Соврасова усталым тоном, потому что знала уже заранее о чём они должны были говорить. Та, долго думая, как начать, медленно отпивала из белой чашки горячий сладкий чай, и наконец, вскинув глаза на подругу, сказала: — Я очень волнуюсь за тебя... Аня быстро прервала её: — Напрасно. — И всё же, Анюта, мы с тобой подруги. Я знаю эту историю с вашими отношениями. Но... Аня опять не дала ей договорить: — Ничего ты не знаешь, Таня. Ты не сможешь этого понять. В твоём понятии, дружба — это спасение друга от неудач и предостережение от неприятностей, а не поддержка его в трудные минуты. — Я смогу помочь, Аня. — Не надо. Ничего не делай, мне ничего не нужно. Извини, дело не в тебе, это я — такая. — Я не могу смотреть на тебя. Мы все волнуемся, и Тонька говорит поговори с ней, я боюсь подойти. Аня, посмотри на себя, кем ты стала за эти две недели. Тебя не видно. Мне страшно на тебя смотреть. Что она с тобой делает? Аня долго смотрела в пол, и вдруг, подняла глаза, полные страдания и непонимания: — Когда мы только начинали с ней дружить, я сама её не понимала. Но тянулась за ней безмерно. Потом мы стали близкими подругами...И я растворилась в ней, буквально стала с ней одним целым, так меня завораживали те вещи, совсем для меня новые, которые я узнавала, общаясь с ней. Это не та дружба, Таня, которую ты считаешь идеальной, комсомольская дружба, большую часть которой, составляет долг перед обществом. Это что-то совсем другое. Необъяснимое. — она помолчала — как любовь... И я одно время уже почти была готова принять всё, но она одной своей фразой убила меня, в тот момент когда я только оживала, только начинала дышать верой. Понимаешь, тем, чего ждала. Я нашла себя, почувствовала, потрогала... Но всё одним вечером обрушилось, рухнуло, сломило меня. И я заразилась идеей во чтобы то ни стало — жить. Жить не так как нас учат, или как я умею, а так, чтобы не услышать больше этих слов от неё. Так, чтобы забыть их навсегда, стереть из памяти, испепелить. Они долго молчали, Таня не решалась ничего спросить. — Как-то я должна была отвезти в исследовательский центр, где тогда работала моя мама, документы по школам Ленинграда, — начала Аня, смотря на свои голени в чёрных чулках, и пытаясь вспомнить, где она уже однажды разглядывала голени, именно в чёрных чулках. — Мы с Агнессой поехали вместе. Ехать нужно было долго. Мы сошли с трамвая, и пошли через парк. Было уже поздно, но в Ленинграде, ты знаешь, белые ночи. Мы о чёмт — о говорили, пока шли. И здорово поспорили. Я несла папку в руке, и как-то дёрнувшись, просто выронила её. Знаешь, прямо в лужу, в открытом виде. Мне стало так стыдно, так обидно и противно от себя. Я села на корточки, и стала смотреть на напечатанные бумаги, которые впитывали грязную воду. А она подняла их, и сказала, что мы всё равно должны их отнести, и понесла сама... — Аня остановилась и стала смотреть в окно. — В общем, так получилось, что подумали на неё. Решили, что она уронила документы, а я ни о чём даже не знала. Только как-то вечером, уже в последние дни лета, она сказала мне: «Вот видишь, ты — никакая, на тебя не смотрят, ты — хорошая, тебя не замечают, ты — плохая, и всё равно все смотрят на меня...» — я тогда не поняла о чём она говорит, просто раздвоилось всё перед глазами. Тогда же и твёрдо решила, что всё буду делать так, чтобы вести за собой, выделяться, бороться... — она глубоко вздохнула — а про историю с документами, я узнала уже задолго после того лета. Мне мама рассказала,... ничего уже было не изменить. Аня долго смотрела в одну точку. Её красивое лицо светилось какой-то нежностью и теплом, непонятно откуда взявшимися. Красное платье, одетое на ней делало её похожей на черноволосую испанку, страстную и неприступную, как Кармен. Таня не сводила с неё глаз: — Зачем тебе это теперь, Аня? Когда всё уже позади, что ты хочешь ей доказать? За что ты борешься? — Я ничего не хочу доказать, и у меня не получится. Я просто не могу без неё. Ты её не знаешь, Таня. Она — удивительная, она такая, что раз встретившись с ней, потерять — уже невыносимо. — Я не верю,что ты такая. — Таня строго и испуганно посмотрела на неё — Неужели ты считаешь, что без неё ты — никто? Я не верю, Аня, ты же комсомолка... — Да причём тут комсомолка? — разозлилась Соврасова — Какое мне дело, что думает обо мне толпа одноликих приверженцев красного знамени? Да, я — комсомолка, но это мешает любить? Таня, ответь... — Не любить, Аня, а сотворить кумира. — А ты не сотворяешь себе его? — Аня заулыбалась, чуть поднимая уголки губ. — Ты думаешь, что, став коммунисткой, будешь свободным человеком? Ошибаешься, Таня, свободы нет. Потому что мы все живём для кого-то, а эти кто-то ещё для кого-то, и так до бесконечности. А жить только для себя невозможно, это значит стирать себя постепенно с лица земли. Я не творю себе кумира, я хватаюсь за опору, которую мне может дать, увы, только она. Потому что она не такая как вы все. Она слишком рано и слишком хорошо поняла, что ей нужно от жизни...Да, Таня, она сильнее всех нас вместе взятых, потому что ничего не боится. И ты знаешь, что я поняла? Никогда не сравнивай людей, и не сомневайся в них. И ты будешь на высоте!... Таня сидела, побеждёно смотря в пол, она теребила пальцами школьный чёрный фартук и напряжённо громко дышала. — В таком случае, мне не понятно одно — наконец сказала она — что ты называешь любовью?! Соврасова мягко улыбнулась, смотря сквозь неё: — Жизнь. — ответила она и встала из-за стола. За окнами начинало сереть, ноябрьский вечер вселялся в огромные улицы Москвы, наполняя их слабым, мягким ветром. Таня склонила голову, и посмотрела на тонкие пальцы Аниной руки, которой она опиралась на стол: — Ты одинокая? Аня утвердительно качнула головой: — Потому что — зрячая... |
||
ГЛАВА 3 Вид на Кремль с набережной Москвы-реки был мрачным и усталым. Серое, свинцовое небо покрывало верхушки красивых величественных зданий, нагромождённых друг на друга, упирающихся высокими фасадами в незаметный лёгкий туман. Моросил мелкий и тёплый ноябрьский дождь. Анину фигурку лёгко было узнать издалека. На ней было чёрное недлинное пальто с меховым воротником, ноги обтягивали плотные чулки, голени — замшевые полусапожки на шнуровке. Витя рассмотрел её ещё вдалеке, и бежал не переставая и тяжело дыша, пока не догнал её и не схватил за прямое плечо. Куртка на нём была расстёгнута, воротник белой рубашки раскрыт. Аня заботливо застегнула молнию на его куртке: — Около воды всегда холодно, ты же знаешь. — с этими словами она взяла его под руку и повела вперёд, смотря на мокрый тротуар. — Ты стал очень занят в последнее время? — она посмотрела на его лицо, изучая его от подбородка до низкого лба. — Да. Немного время поджимает. — он дружелюбно взглянул на неё. Витя был выше её на голову, и, смотря на неё с верху вниз, взгляд его всегда получался каким-то заботливым, отцовским и умилённым. Аня положила голову ему на плечо: — Да, конечно, у нас у всех времени мало. Как не хочется уходить из школы... — они остановились, смотря на спокойную воду. — Ты представляешь, уйдём, и всё, больше никогда. Впервые в жизни — никогда. Так, что уже не вернуть. А никогда — это навсегда, на всю жизнь, до последнего вздоха....Мы все ещё просто не понимаем, что такое жизнь. — Ты думаешь? Школа... а ведь на ней всё не заканчивается. Это, как у Ремарка, — жизнь слишком долгая, чтобы любить один раз. Вот и здесь так же. Мы ничего не знаем, кроме школы, но ведь это — всего 10 лет из максимума 70, которые может прожить человек. — Но они — раз и навсегда!... Ты знаешь, даже один год, да что там год, день может быть прожит так, что останется в памяти до самой смерти. А ты говоришь — всего 10 лет! Это — не всего, это слишком много... Аня посмотрела на Витю. Его кожа была матово-розоватой, немного грубой и очень чистой, у переносицы совсем незаметны были веснушки. Мальчики с таким лицами никогда не бывают ни брюнетами, ни блондинами, они всегда только русые. И никакой другой цвет волос к их лицу не подходит. А Витя был чёрным, по-цыгански чёрным, и его волосы делали кожу лица ещё смуглее, а чуть заметные веснушки казались нарисованными неграмотным художником. Аня давно заметила это несоответствие, и ей нравилось его отмечать каждый раз, разглядывая его лицо вблизи. От этого он казался даже каким-то непонятно красивым, и её тянуло к нему ещё больше, а подчас, так трогало, что улыбка умиления появлялась на Аниных губах, и она тихо, беззвучно, чтобы его не обидеть, смеялась. — Ты можешь положиться на меня? — спросил он вдруг, не мигая смотря на неё. — Ты веришь в меня? Аня быстро вскинула голову, и взяла его лицо в свои сухие холодные руки: — Я верю только в тебя. Мне никто кроме тебя не нужен. Я прошу, не оставляй меня. Он крепко обнял её, соединив руки замком на её спине. — Как ты могла сказать такое? Я люблю тебя больше жизни... Аня перебила его, тихо вздохнув: — Больше жизни, Витенька, можно любить только смерть. Больше жизни ничего не возможно любить. Только её одну...только её. Витя был другим: все под гитару пели бардовские песнио — н подбирал Брамса и играл Чайковского, все выучивали наизусть Евтушенко — он сочинял эпиграммы на Пушкина; в конце концов все знали, что их жизнь связана с комсомолом, как с зубной пастой по утрам — Виктор по неведомым причинам относился к комсомолу принципиально и — не вступал туда... Аня никогда не говорила о нём ни с кем, их отношения были всем известны, но оставались неизвестными никому. Мало кто мог найти в себе силы заговорить с ней об этих отношениях, это был слишком сильный союз — Соврасова и Гуськов. Они казались такой необыкновенной парой, настолько идеальной и красивой, что невозможно было представить их мужем и женой, или нарисовать в своём воображении ребёнка, родителями которого были бы они — такие красивые и непонятные, но сильные и яркие. — Мне иногда кажется, что ты ничего не знаешь о жизни — сказал он вдруг с внезапной горечью — просто живёшь своими идеалами, выдуманными этическими ценностями, а они губят тебя всё больше и больше, и заражают какой-то болезнью. — Да, которая называется мизантропия. — она склонила голову набок — я не знаю что я люблю, а что ненавижу. Иногда эти понятия для меня путаются, я только определённо помню, что, что-то я люблю, может быть это жизнь, может быть её красота. Но есть что-то то, чего я жутко боюсь и ненавижу. Что-то незнакомое мне, неопределённое, но очень сильное, засасывающее меня в землю...И тогда любовь к жизни пропадает, и кажется, что весь мир для меня — эшафот. — Ты любишь жизнь, как таковую, но не ценишь её в человеке... — сказал Виктор и его слова остались пустыми, незамеченными, звонко разбившимися о воздух, может быть они были слишком жестокими, может быть слишком правдивыми... Аня вдруг схватила его лицо, и наклонив его к себе, вытянувшись, напряжённо дыша начала целовать его в губы, жарко ловя дыхание и как-то бессильно дрожа всей грудью. Она целовала безостановочно, не отпуская его губы ни на секунду, и только изредка лишь опуская нижнюю губу, чтобы вдохнуть свежий холодный воздух. Обвивая Витину шею жаркими вспотевшими ладонями, она всё ближе прижимала его к себе, и, соприкасаясь лбом с его переносицей, дыша в унисон с ноябрьским ветром и его быстрым дыханием, смотрела на его вишнёвые, обветренные, горящие губы. — Аня, Анечка, любимая Анечка! — он судорожно, по-детски сжимал её в своих сильных объятьях и беспомощно глотал большим ртом её запах. Запах тепла и детского крема, такой трогательный, манящий и родной. Ничего ароматнее этого запаха для него не было. Аня долго дышала в Витину шею, и наконец, подняв голову и посмотрев в большое плечо со всей силы, тихо и страстно, дрожа всем телом зарыдала, впиваясь пальцами в балоньевую куртку и дёргая его за рукав. — Аня, Аня... Аня... — его голос удалялся, становился всё дальше. Она поняла, она все эти две недели ждала этого момента. Она боялась его, но знала, что он должен наступить, и теперь, главное было пережить его. Слёзы безжалостно лились сами собой, дыхания не хватало и было больно где-то в животе, или в груди, а может — и там и там. Ане было больно, казалось, что все умерли, а значит ничего уже не вернуть. Ей было жалко Витю, и она боялась, чего-то безмерно боялась, казалось, кто-то стоит над ней, и стоит ей поднять голову, как по ней ударит тяжёлый блестящий топор и она покатится по мокрой набережной, окровавленная, застывшая в рыданиях. Аня вдруг ясно представила себе это и стало страшно, что никто не поймёт её и не утешит. Ещё больнее было от того, что она плакала на Витином плече, а ни на чьём-то другом, почему то не хотелось слышать его утешений, было горько и мучительно, каждый звук на улице казался упрекающим, как будто он относился напрямую к ней и жизнь шептала: «Аня, подними голову, я рядом, я — не такая, какой ты меня видишь, я совсем другая, чужая, незнакомая, жестокая и злая...Я даже хуже, чем смерть, но тебе придётся меня терпеть, ты же любишь меня, все об этом знают, ВСЕ, теперь ты не отречёшься от своих слов...теперь поздно, теперь уже никогда!» — Анечка! — Витя поднял её темноволосую голову, раскрасневшееся, вспотевшее лицо бессильно было опущено, на каждой черте его застыло страдание, каждая часть была неподвижной и мёртвой, только сплошные чёрный брови подёргивались, оживляя его. Губы возбуждённо дрожали и сжимались в судорожных вздохах.: — Я ничего не хочу — сказала она, заикаясь — отпусти меня, Витенька, оставь меня сейчас, умоляю... Большая Москва, златоглавая, красно кирпичная, необъятная и всепоглощающая, давящая своим величием и хладнокровием. Родная Москва, сколько жизней она в себя проглотила, сколько судеб разбила, искривила, обезглавила. Сколько юных сердец потопила в океане своего честолюбия, звоне чудом сохранившихся православных колоколов, оградных цепей и вечных курантов... |
||
ГЛАВА 4 Ярко освещённый класс тонул в гудении и шёпоте, первый урок обычно начинался долго. Миланская сидела за партой, которую она заняла с первого дня учёбы в новом классе, и, не смотря на собеседницу, с холодным бездейственным лицом слушала Картошёву, которая без умолку что-то говорила, периодически поднимая глаза на Агнессу и изучая её профиль судорожным мышиным взглядом. Классная вошла стремительной походкой, весело положив журнал на стол, она сказала, что сегодня на уроке будут говорить ученики, приготовившие доклады по теме «Герои «Разгрома». Она любила такие уроки, и устраивала их как можно чаще, потому что ей не всегда удавалось подготовить материал интересно, а главное правильно, поэтому она с удовольствием пользовалась наличием таких учеников в классе, как например Таня Рябушева, или староста Соврасова. Начался урок, в классе наступила тишина. Соврасова вышла к учительскому столу и, поправив передник начала размеренно и громко рассказывать про Морозку, кем он был, и какова его роль в романе. Она иногда оглядывала класс, и когда её глаза встречались с чёрными холодными глазами Миланской, резко опускала ресницы, тяжело дыша и собираясь с силами. На последней парте сидел Витя и Аня знала, если она туда посмотрит и встретит его задорные, вечно блестящие и любящие глаза, ей станет намного легче, но она нарочно этого не делала, что-то внутри отговаривало её, запрещало, как будто заставляло держаться. Агнесса не слушала Аню и не слышала её. Она сидела, равнодушно перебирая страницы своей тетради, и, иногда улыбаясь на какую-нибудь её фразу или интонацию, смотрела в парту. В классе стояла гробовая тишина, каждый шелест тетрадки был слышен, и вдруг, на последней колонке у стены, прямо за спиной Агнессы тонкий девичий голос тихо прошептал куда-то в задние ряды: «Шептунов, ты меня любишь?»...Никто этого не услышал, только Агнесса, тяжело вдохнув в ноздри воздух, вдруг на выдохе разразилась громким искреннем смехом, высокомерным и заразительным. Соврасова покраснела и осеклась, Тоня изумлённо посмотрела на соседку, Рябушева в испуге подняла глаза на Миланскую, Гуськов нахмурил брови, а растерявшаяся учительница нервно поднялась из-за стола и спросила: — В чём дело? В это время Миланская не обращая ни малейшего внимания на учительницу, повернулась к задним рядам, чтобы посмотреть, на того, кто так сильно её рассмешил. Она блестящими, ненавидящими и смеющимися глазами оглядела задние ряды и, сдвинув брови в одну линию, посмотрела на классную: — Прошу прощения, я не хотела мешать — эти слова были обращены только к Ане Соврасовой, Агнесса посмотрела на неё ласковым взглядом, который впрочем никто не смог бы назвать таковым. — Ну ты даёшь. — прошептала Тонька. Агнесса быстро вскинула голову, встряхнув густую прядь волос, падавших ей на лоб и улыбнулась собеседнице, вновь вспомнив фразу, над которой она рассмеялась. В окна била густая, лёгкая метель. Это был новорожденный снежок, пришедший сегодня утром с неба и всех удививший. В классе было светло от дневного солнца и тихо. Аня сидела чуть сгорбившись, подперев лоб рукой. Её лицо выражало усталость и грусть, губы были полуоткрыты а скулы напряжены. Глаза, чуть влажные с дрожащими от готовности расплакаться зрачками были устремлены на бледный профиль Агнессы Миланской. Она неотрывно оглядывала его, будто видела впервые, и только, когда та вдруг поворачивала голову в её сторону, опускала глаза в парту, напряжённо выжидая... ещё секунда, потом вторая, и Аня опять неуверенно поднимала глаза и смотрела на её губы, профиль, на густую прядь волос, спадавших ко лбу, на красивые, слегка поднимающиеся кверху разрезы глаз... Что-то резало изнутри, что-то терзало, и хотелось чтоб было лишь чуточку потеплее от чьих-нибудь очень нежных, по-матерински уверенных рук! |
||
* * * Уже рано темнело, и к четырём часам за окнами лежала серо-туманная пелена почти зимнего вечера. Агнесса стояла, оперевшись на подоконник в пустом школьном коридоре напротив кабинета истории, откуда доносился иногда пронзительный учительский голос, монотонно читавший с учебника. В другом конце полутёмного коридора тридцать детских голосов тонко и ритмично пели под аккомпанемент звонкого рояля «Казачью балладу», которая не заканчивалась вот уже как минут пять, и постоянно, безостановочно, всё с большим темпераментом повторялась начиная с первого куплета. Среди детских голосов выделялся особенно ясный и перекатистый голос учительницы пения, она то и дело прерывала песню, что-то громко зычно говорила, и, как по команде, все начинали заново с прежним задором и азартом. Неожиданно кто-то положил руку Агнессе на плечо и мягко потрепал пальцами лямку передника. Миланская посмотрела в прозрачно-зелёное стекло окна и узнала силуэт Тани Рябушевой. — А ты чего ждёшь? — её голос звучал насмешливо-упрекающе. — Я жду Аню — холодно ответила Миланская не повернув головы к собеседнице. — Зачем ты её ждёшь? — Нужно же кого-то ждать после школы, чтобы потом вести к себе домой, разговаривать, рассказывать сокровенное, доверяться. Нужно же кого-то опекать, утешать, контролировать в конце концов. Таня уловила её насмешливый тон и улыбнувшись, посмотрела за окно: — Ты и правда особенная. Но я тебя ненавижу. Агнесса усмехнулась: — Как скоро... Мы слишком мало знакомы. Таня не слушала её и продолжала говорить, прищурив глаза: — Я тебя уважаю. Да, уважаю. Но только за то, что вижу: всё, что есть в тебе — твоё личное, только твоё, тебе принадлежащее и тобой рождённое. А всё, что в ней — всего лишь скудное подражание, опять же тебе. Агнесса повернула голову и с интересом взглянула на Таню: — Это не скудное подражание, а, наоборот, очень искусное, талантливое и даже в своём роде неповторимое. Таня почти бездумно смотрела на снег и, казалось не слушая Агнессу, тихо продолжала: — Хорошо, что она ещё пока пробор, как у тебя не носит... Но это же невозможно, я не верю, в то, что так можно заразить человека. — Она внезапно посмотрела стеклянными глазами на Агнессу: — Вы с ней сёстры, ведь так она говорит? Миланская вскинула прядь волос, спадавшую на лоб и закрывавшую ей один глаз: — Мы с ней не сёстры... Мы — синонимы! Таня вдруг взорвалась, её лицо покраснело, глаза расширились: — Но ведь дружба, это — другое. В дружбе такого не бывает. Там же все бескорыстно, всё честно, а главное — на равных. Агнесса выгнула длинную шею и глубоко вздохнула: — Значит дружба? — Вообще, не только дружба. Во всех человеческих чувствах должно быть всё гладко. Все люди — друг перед другом равны, и их отношения не могут быть вот такими несправедливыми. Агнесса поморщилась. Таня продолжала: — Это же никогда ни к чему хорошему не приведёт. Вы сами должны это прекрасно понимать. Вы сами ведёте друг друга к тому, что скоро просто уже возненавидите, она — тебя, а тые — ё. Агнесса тихо усмехнулась: — Никогда не знаешь к чему приведут плохие отношения, а главное, никогда не знаешь до чего дойдут хорошие. — Может быть ты и права. Но зачем так сильно ненавидеть её? Нет, прости, это, вероятно, не моё дело. Но вы ведь самые близкие друг другу люди. Агнесса прервала её: — Пока я — с ней, у неё нет близких в этом мире... Таня изумлённо посмотрела на неё и замолчала. — Ты знаешь — Агнесса продолжала — есть такая легенда, очень мудрая. Легенда про дикобразов. Так вот она не про дикобразов, а про нас, только про нас...Потому что глупее и слепее, чем люди нет уже никого. — Какая легенда? — Ты не слышала? Дикобразы, живущие в холоде, страхе и мраке, начинают вдруг понимать, что каждый из них живёт не один, потому что рядом его брат, такой же дикобраз, которому тоже холодно, одиноко и страшно. И они начинают вслепую искать друг друга, чтобы сплотиться, прижаться друг к другу, согреться. Они надеются, что вместе им будет легче, вместе они сильнее. И вот они находят друг друга, прижимаются и им действительно становится теплее, увереннее и спокойнее. Они начинают прижиматься ещё плотнее, совсем плотно, чтобы стать почти одним целым, одной массой, чтобы стать единой силой, ведь так — не страшно, не холодно и не одиноко. Но, прижавшись совсем вплотную, глупые дикобразы натыкаются на длинные иголки друг друга, и, больно поранившись, разлетаются с дикой силой в разные стороны... — Агнесса долго молчала — Самое ужасное, что потом они опять возвращаются, и всё повторяется, как прежде...Так до бесконечности. Я не знаю, или они глупые, или слепые. А может быть просто эта тяга к чужому теплу у них — на уровне инстинкта. Ты понимаешь, что тоже самое происходит и с нами? Только это в 10 тысяч раз страшнее и безнадёжнее... Таня смотрела на Миланскую дикими, обезумевшими от только что услышанного, глазами: — Но, ведь это — бескорыстное желание довериться. Жить для кого-то. — Да, бескорыстное. А всё, что бескорыстно, всё, что искренне, всё,что от души — глупость, самая большая и непростительная. Наступило молчание. В коридоре всё так же раздавались звонкие звуки рояля и детский хор почти отчеканивал: Мне малым-мало спало-ось. Ой, да во сне привиделось!... Таня испуганно оглядывала профиль Миланской. Из под ресниц её светились чёрные усталые, какие-то вовсе не холодные, а наоборот живые преисполненные невероятным чувством глаза. Она медленно поднимала и опускала ресницы, смотря вниз, как-то грустно и безнадёжно. Было странно видеть её такой, Тане сразу вспомнились слова Соврасовой: «Она не такая, как все...». Можно было легко поверить, как любят эту девушку, легко ощутить эту любовь и даже почти вселить её в себя. Агнессино лицо вблизи было совсем иным, вдалеке оно представлялось недоступным, каменным, неприкосновенным, при ближнем же рассмотрении оно оказывалось более живым и влекущим; ощущение неприкосновенности оставалось, но это уже была другая неприкосновенность, её хотелось нарушить, во что б это ни стало сломать, наоборот прикоснуться к её лицу, ощутить пальцами бледную кожу или даже вдохнуть её запах. Губы Миланской были сейчас так сильно опущены, что казалось абсолютно реальным представить её плачущей. — Скажи, тебе привычна любовь? — спросила Таня. — Мне привычно её присутствие, но не ощущение внутри себя. Таня неожиданно залилась краской, и неровно дыша, волнуясь и запинаясь, спросила: — Скажи, за что Аня тебя так любит? Почему на всё готова ради тебя, и отчего ты так слепо этого не ценишь? Агнесса подняла глаза и решительно посмотрела на Таню, оглядывая в подробностях её лицо: — Не стоит бросаться в крайности, никогда и ни в чём. А любовь, дошедшая до крайности называется одним простым и ярким словом —...Фанатизм! Таня вдруг почувствовала, как лицо её потеет и голос становится ниже: — Тебе легко судить, Агнесса, ты никого не любишь... — она внезапно остановилась, и как бы вопрошающе посмотрела на последнюю. — Легко судить?... — Миланская приподняла брови и лицо её приняло выражение насмешливое — Быть судьёй — самое великое несчастье...Не тебе ли это не знать,как ни кому иному? — Почему мне? — Но ведь ты же у нас судишь людей? Ведь тебе так нравится советовать им, обвинять, учить и спасать, не так ли? Я не могу ничего тебе сказать, мне тебя очень жаль... искренне! Ты была очень сильной, но вовремя сломалась...Жаль, что чужая любовь смогла так сильно внедриться в тебя. Это — яд... — Ты хочешь сказать, что... — Да, ведь тебе хочется, чтобы и ты так же страдала, не правда ли. Тебе безмерно обидно, что никто вот так не постоит за тебя, как ты сейчас стоишь за Аню. Тебе хочется, чтобы всё это было и твоей жизнью тоже, и поэтому и берёшься судить нас. Напрасно, Таня. Не нужно думать, что люди стесняются попросить тебя о чём-то. Если они этого не делают, значит им это не нужно! Рябушева продолжительно смотрела в пол, думая что ответить, и наконец посмотрела на Миланскую: — Агнесса — в её глазах сверкнула беспомощная злоба, — не думай, что если ты — серьёзный авторитет для Ани, то и все остальные признают его подлинность. Агнесса улыбнулась этим словам и с сожалением произнесла: — Я никогда нигде не была авторитетом и не смогу им стать. — Зачем ты это говоришь?... — Скажи мне, как человек, не признающий авторитетов, может сам являться таковым? Таня замотала головой и сощурила большие глаза: — Я тебе не верю. — А мне не нужна твоя вера, даже не напрягайся. Мне не поможет ни она, ни её отсутствие... Рябушева громко вздохнула: — Ты не представляешь... — она хотела что-то договорить, но не знала что. Агнесса стояла, покорно склонив голову и с каким-то трогательно приветливым лицом, даже несколько детским и отвлечённым разглядывала свои пальцы. Она была так увлечена этим занятием, что казалось бессмысленным и унизительным в этот момент что-то ей говорить. В это время хлопнула дверь класса и в коридоре появилась Соврасова, радостная и немного взволнованная. Она подошла к Миланской и Рябушевой и вопросительно посмотрела на последнюю. Её лицо из довольного и детского постепенно превращалось в претенциозное. Агнесса положила руку Тане на плечо, которая была явно ошарашена этим взглядом: — А самое главное, что все мы неблагодарные эгоисты, глупые и безответно влюблённые. — Она злобно, почти с презрением посмотрела на Аню, и быстро обойдя обеих, бегом направилась к выходу... Этаж опустел, коридор был уже совсем тёмным, и только где-то далеко громко и весело пели стройные детские голоса: Пропадёт — он говори-ил - Ой, твоя буйна голова!.. Всё вдруг куда-то поплыло, снег громко стучал в окно. Рябушевой захотелось обнять Аню и попросить непонятно за что прощения, но руки отяжелели, голова почти падала, к горлу подступила тошнота, а в душе затаился страх больно обжечься об её тепло, дышащее беспомощными слезами безответно влюблённой эгоистки... |
||
ГЛАВА 5 Следующий день был воскресенье. Его Аня не любила, боялась, отгоняла и с трудом переживала. Воскресенье — день седьмой, самый главный и решающий, самый трудный и неоднозначный день жизни, когда впервые за неделю всё не по графику, а по собственному желанию, а люди часто боятся желаний, и оттого забывают их. Это воскресенье было первым днём декабря. Зима всегда разная, но чаще всего на неё выпадает разлука, может быть потому что метель бывает один раз в году... может оттого, что ночи нескончаемые, а может быть просто она любит холод... Дверь Агнессиной квартиры была длинной и массивной. Звонок, долгий и пронзительный, был слышен на всю лестничную площадку. Эти скудные секунды ожидания казались вечными и тяжёлыми. Аня в эти моменты себя ненавидела и боялась, каждый звук на лестнице казался ей по-предательски громким, а — там, за дверью квартиры — неприветливо ленивым. Дверь открыла Агнесса, в синем халате, с аккуратно убранными наверх волосами и пробором на правую сторону, с чуть вздёрнутыми кверху глазами, немного монгольскими и бесстрастными. Её длинная шея, прямая и бледная, была гибкой, как дуга, а выпирающие неестественными острыми буграми ключицы, казалось болезненно натягивали кожу. Она улыбнулась: — Это воскресенье ты решила посвятить мне? Аня, долго расстёгивала чёрное пальто и, резкими движениями развязывая красно-малиновый шарф, встряхивала аккуратно причёсанной головой с волнистыми чёрными волосами, убранными в кичку; часто дыша, она сказала: — У тебя холодно на лестничной клетке. Агнесса тихо засмеялась, и Аня, подняв глаза на её профиль, не смогла не улыбнуться. Когда Миланская улыбалась, нос её чуть-чуть опускался, губы красиво и эластично вытягивались обнажая большей частью верхние зубы, а шея несколько напрягалась, и лицо становилось невероятно приветливым, притягательным и добрым. Самое невероятное в таких моментах было то, что глаза оставались по-прежнему спокойными, решительно холодными, чёрными и блестящими, или даже излучающими блеск. Резко отодвинувшись, она пропустила Аню войти и некоторое время ещё оставалась в дверях. Квартира была полутёмной, очень просторной и богато обставленной. Красная ковровая дорожка, проходившая через всю большую комнату, где чаще всего находилась Агнесса была чистой и яркой и дубовые кресла и комоды смотрелись на её фоне представительно — недоступно, почти как в музее. Дверь в каждую комнату была закрыта, оттого создавалось ощущение полнейшей тайны всего находящегося в этом огромном, разделённом на семь комнат пространстве. Аня прошла в привычное ей глубокое кресло и, вжавшись в него посмотрела на Агнессу, стоявшую у окна с маленькой рюмкой какого-то красно-коричнегого вина. — Не хочешь попробовать? — почти с усмешкой спросила она, зная, что та откажется. — Спасибо, может быть попозже... Снег тихо лежал на низких и высоких домах, солнце не попадало в окно, и лишь некоторые слабые его лучи несмело пробивались через белые занавески просторной комнаты, освещая пол Агнессиного лица. — Миланская, у нас скоро вечер, почему ты не принимаешь никакого участия? — Аня сидела, положив руки на грудь, откинув на спинку сиденья голову и смотрела сверху на непонятно затемнённый силуэт Миланской. Та улыбнулась: — Мне показалось неуместным среди таких деятельных людей показывать свои скудные таланты. — Почему ты не осталась учиться в Америке? — Я — патриотка! — И всё?... — Мои последние надежды были связаны с тем, что меня забудут, но они не оправдались... — Агнесса положила голову на стенку. — Не ври... — Аня со злостью посмотрела на пробор на Агнессиной голове. — Я ценю твою проницательность. Но ты не представляешь, как устаёшь от людского внимания. — Не хочешь, чтобы тебе надоедали люди, сделай что-нибудь для них. Агнесса заинтересованно посмотрела на Аню и прошла к креслу напротив. — Как это связанно? — Ты ведь никогда не скажешь плохо о человеке, с которым целуешься? Миланская утрированно подняла длинные брови и застыла в удивлённой мимике: — У тебя слишком нравственное представление о людях, дитя. — Это мне помогает их терпеть. Мы все ведь только кажемся нравственными, но мы такие — пока мы вместе, а потом... Агнесса кивнула головой: — Каждый человек не эстетичен, и не слишком красив наедине с собой... Ты это хочешь сказать? Аня нетерпеливо встряхнула руками: — Абсолютно не так. Просто мы только вместе что-то значим, а каждый из нас в отдельности — странное, бесцельно живущее существо, принадлежащее жизни. — Ты слишком плохо думаешь о жизни. Аня усмехнулась: — Я люблю её. А ты разве нет? — Я воспринимаю её, как блудницу. Это подлая и высокомерная, бездарная и слишком высоко себя оценивающая проститутка... Вот такой я её презираю и готова любить всеми силами смерть, хотя бы за то, что перед нею все равны. — Господи, как смело ты говоришь в пустоту. Ты, Агнесса, никогда не думала о том, что в жизни самое главное это — слова...? А я всегда об этом думаю. Ничего более реального, сильного и беспощадного в своём могуществе нет. Всё только от них одних зависит. А ты так смело говоришь, что любишь смерть, как будто сможешь потом попросить у неё прощения и взять свои слова обратно. — А ты никогда не пробовала выжимать на разрезанные пальцы лимонный сок? — Нет, не пробовала. — А ты испытай себя. Поймёшь чего ты стоишь. Тогда и поговорим, отвечаю я за свои слова или произношу их в пустоту?... Агнесса встала с кресла и направилась к выходу, через несколько минут она вернулась с двумя кружками чего-то очень горячего. — Почему мы так безвозмездны? Аня взяла альбом с фотографиями, лежавший на журнальном столе, и листая его, медленно осматривала уже давно знакомые ей фотографии. — Потому что мы не придумали ничего в своей жизни и судьбе. Всем этим мы только пользуемся, только верим в это, подчиняемся. Ты же сама сказала — у нас всё на уровне животных инстинктов. — А причём здесь то, что говорила я? Ты ведь у нас любишь жизнь, и людей тоже любишь, так не отступайся от принципов?! Аня сидела наклонив голову набок и рассматривала фотографии. Миланская улыбнулась, посмотрев на неё. Тёмные волнистые волосы, немного завивающиеся, блестели под лучами дневного солнца. Одна часть лица её была хорошо освещена. Глаза Ани были расширены, красивое лицо светилось дружелюбием и покорностью. Эта южная покорность, по-цыгански преданная, всегда бросалась в глаза. Оттого Агнесса с Аней рядом друг с другом смотрелись, как две крайности: смерть и жизнь, жестокость и милосердие. Привязанность второй к своему противоречию была ровно столько же необъяснимой, сколько и безудержной...Казалось конца не будет этой гениальной бездарности, но не было... покоя! Миланская наблюдала за каждым движением длинных ресниц своей любящей подруги, за каждым движением ровных пальцев, с удовольствием отмечая красоту и безупречность всего этого, не только по истине магнетического от природы, но прежде всего беспредельно принадлежащего ей, только ей одной, или ей — в первую очередь. Аня наконец подняла голову и тихо сказала: — Я не отступаюсь от принципов, просто слишком странно от тебя было слышать столь ласковое отношение к людям, почти нежное, не так ли? — Значит назвать тебя бесплатной — уже обласкать?! Аня побледнела и выпрямилась: — Там было другое слово... В комнате воцарилась тишина, только иногда за окном был слышен ветер, стучащий в окно. Аня тяжело вдохнула запах зелёного чая и его горячий аромат: — Я хочу тебя уничтожить! Агнесса помолчала и вдруг залилась громким, заразительным смехом: — Забудь... — сказала она, ласково играя взглядом, скользящим по еле различимым в темноте Аниным чертам лица. Её голос стал совсем грудным и материнским, как будто поток умиления обдал её внутри. Внезапно раздался щелчок двери, и на пороге появился небольшого роста, пузатый и толстошеий мужчина. Агнесса повернула голову в его сторону и её лицо сменилось с довольного на высокомерное: — Здравствуй, папочка, — низко и строго сказала она и отвернулась. Он недовольно и в тоже время по-рабски пугливо наклонил голову в знак приветствия. Аня сидела, оторопев, искренне и по-детски расширив большие вишнёвые глаза и разглядывала того самого «фараона», названного собственной дочерью богатой и откормленной тварью. Она видела его в первый раз в жизни, и никак не могла сопоставить с Агнессой, как одну с ней кровь, как создавшего её. — Познакомься, Аня, это мой отец. — сказала Агнесса, не повернув голову в его сторону, а пристально и холодно смотря на Аню. Аня кивнула головой, он ответил лёгким «здрасте» и застыл в дверях. Его толстая, невысокая фигура, одетая в светлый костюм и белоснежный плащ вырисовывалась на пороге комнаты, подобно памятнику. Пухлые пальцы опирались на косяк двери. Лицо имело цвет тёмно-матовый, нос широкий и оплывший с кривой переносицей был опущен, тонкие губы, почти бесцветные и невидные, сложены в мимику недовольства и угнетённости, светлые очень редкие, мягкие волосы были зачёсаны назад за уши... и только глаза, в своём разительном сходстве с глазами Агнессы выделялись, как два огня — такие же чёрные, монгольские и ненавидящие они смотрели пристально и дерзко, вдавливая в стенку и почти уничтожая. — Ты зачем пришёл? — она опять не повернула головы в его сторону, а, поглаживая голени и следя за своими руками, недовольно поднимала утрированно выгнутые брови. — Я только забрать документы. — с этими словами он исчез с порога, а через какое-то мгновенье за ним захлопнулась входная дверь и в квартире вновь воцарилась прежняя будоражащая душу тишина. — Я никогда не представляла его себе таким, — проговорила Аня. — Жизнь поступила с ним по-предательски. В молодости он был красив, теперь же ничего от красоты его не осталось, видно, она ушла от него безвозвратно... — К тебе? — Я — копия мамы, поэтому она никогда меня не покинет, а его молодость мне не нужна, мне достаточно того, что во мне его кровь... Аня опустила голову и открыла последнюю страницу альбома с фотографиями. Там лежали на груде больших и маленьких фотокарточек две незнакомые ей фотографии небольшого формата, выполненные в цветных тонах. На первой — портретной, Агнесса, изображённая по плечи, в синем с белыми манжетами платье, убранными наверх волосами с неизменным пробором, солнечно улыбалась своей сдержанной, милосердной улыбкой. Чёрные глаза, подведённые слегка тушью, смотрели в объектив строго и укоризненно. От фотографии было трудно отвести глаза, потому что такой живой и притягивающей Агнесса не была даже в жизни; всё её лицо светилось красотой, добротой и силой. Другая фотография, поменьше размером, тоже была выполнена, как портрет, но больше похожа на любительскую. На ней усталая и огорчённая Агнесса смотрела куда-то вдаль. Черты лица её не очень отчётливо выделялись, глаза были слегка прищурены, скорее всего от ветра, волосы, убранные в хвостик, растрепались, черный свитер с высоким горлом вытягивал шею и делал лицо очень болезненным, почти беспомощным и угнетённым, что было странно, непривычно и даже несколько пугало. Её губы на снимке были поджаты и выгнуты в мимике напряжённого недовольства, а выделяющиеся брови жалостливо сдвигались у середины лба. Аня долго смотрела на обе фотографии и в нерешительности закрыла альбом. — Как я тебя люблю... — Кош-шмар, как ты меня любишь. — Миланская особенно звонко, утрированно прошипела первое слово. Она очень часто так делала, когда эмоции переполняли её, чаще всего это больше относилось к позитивным эмоциям. С этими словами она улыбаясь подошла к Ане и крепкими длинными ладонями взяла её шею: — Ты ведь мне всё позволишь...?... Аня убрала её руки и выгнулась всем телом, запрокинув голову: — Ты хотела договорить?... — Позволишь сделать с тобой... — Конечно. Тем более что, ты всё равно этого не сделаешь? — Почему? — Никто не знает тебя лучше, чем знаю я... Никто так преданно не любит. Моя сила в том, что я без тебя не могу... Агнесса села на ручку кресла, в котором сидела Аня. Она пристально смотрела на неё, словно пыталась понять, что она чувствует и о чём сейчас думает, и наконец, наклонившись к самому её уху, тихо сказала: — Ты меня боишься... Аня опустила глаза, которые прослезились от тепла, обдавшего её: — Смертельно! Миланская резко отодвинулась: — Хорошо сказала... красиво! За окном подул не зимний ветер, форточка распахнулась, лежавшая на журнальном столике картонная пачка лекарств быстро покатилась по лакированной поверхности. Аня подхватила её одним движением руки и поднесла к свету упаковку. — Снотворное. — Произнесла она вслух и вопросительно посмотрела на Миланскую. Та стояла у окна, вглядываясь в кого-то на улице, то и дело щурясь раскосыми глазами. — Да, — сказала она, не поворачивая головы — я никогда не засыпаю без них. — Почему? — Очень трудно. Наверное я не настолько сильная, чтобы заставить себя прервать свою жизнь на какую-то короткую ночь. Сколько не пытаюсь, не получается. Приходится выпивать пакет порошка на ночь. Так бы я вообще уже давно забыла что такое сон. — Это же не нормально, — Аня обеспокоено посмотрела на Агнессу. — Ты просто не пытаешься. Та усмехнулась: — Не могу себя пересилить... А зачем, если мне порошка хватает. Итак слишком часто в жизни приходится пересиливать себя или ограничивать, не так ли? Аня тяжело вдохнула свежий ветер, ворвавшийся в комнату и встала, посмотрев на часы на противоположной стене, за стеной играло радио. Она посмотрела на Миланскую, сильную и волнующую, с нежностью в каждом движении рук, опускании ресниц и ровности дыхания, с будоражащей страстью в каждой улыбке и леденящей проницательностью в мимолётном взгляде. — Агнесса, ты чего-нибудь боишься? Та быстро кивнула головой: — А вдруг ничего никогда не кончится... Они стояли плечом к плечу, скрестив ноги и положив покорно руки на подоконник, если бы только они знали, как похожи были в этот момент.... Стоя уже на пороге в застёгнутом пальто, Аня вдруг встрепенулась: — У меня нет ни одной твоей фотографии... Агнесса,усмехнувшись, перебила её: — И не надо! — Можно я возьму? Та моргнула ресницами в знак согласия: — Какую хочешь. Соврасова быстро подбежала к журнальному столику, и раскрыв альбом на последней странице, схватила оба портрета и, не медля ни секунды, откинула тот, на котором Агнесса в синем платье во всей своей блистательной красоте улыбалась в камеру, а второй сунула поспешным движением в карман и захлопнула альбом со всей силы. На улице, уже потемневшей от раннего зимнего снега, завывала метель, первая гостья настоящей зимы. Аня шла, напряжённо подняв плечи и вжимаясь в ворот пальто. Её руки были в карманах, правая крепко стискивала между пальцев плотную бумагу фотоснимка, на котором Агнесса Миланская, сощурив красивые глаза, смотрела вдаль со спокойным грустным лицом, простым и беспомощным. |
||
* * * В полутёмной комнате, освещённой ночничком, согнув колени, Аня сидела на своей широкой кровати. За окнами было тихо, морозно и вечерняя метель слабо кутала ветки деревьев в снежные покрывала и стучала в окна мелким лёгким снежком. Аня читала заданную по программе книгу, ерзая глазами по странице, и никак ни могла сосредоточиться на прочитанном. Когда зазвонил телефон, она с особенной быстротой подскочила к письменному столу, на котором он находился. Голос Гуськова звучал очень растерянно и несколько неуверенно: — Аня, а я к тебе заходил сегодня несколько раз...Мы ведь договаривались встретиться. — он помолчал — Но тебя весь день не было дома... — Да, Витюш, я не смогла тебя предупредить... — она замолчала. — Извини меня, пожалуйста, в следующее воскресенье обязательно будем вместе. — А я, видишь, хотел поговорить с тобой... — его голос звучал ещё более расстроено. — Ну так я слушаю тебя, — она села на стул и перевернула лицом вниз фотокарточку Агнессы, лежавшую на столе — что именно ты хочешь сказать мне? В голосе её послышалось лёгкое, почти незаметное раздражение, и Витя это понял. Он стоял с телефонной трубкой у окна в своём маленьком кабинете, обставленном книгами, нотами и учебниками. В углу его у окна стояло пианино — чёрное и блестящее, почти новое. Витя то и дело проводился по его покрышке пальцем, ощущая скользящую лакированную поверхность.Теперь, после этих слов, он уставился в одну точку и бездумно смотрел в неё, даже не находя нужных слов для разговора. — Что ты молчишь? — послышалось на другом конце провода. — Мне кажется ты в чём-то неуверенна, — вдруг сказал он — тебя кто-то чего-то лишил, или ты сама себе не даёшь покоя своими мыслями. Аня вздохнула с облегчением. Он опять угадал её состояние в полнейшей точности, и ей было приятно, что ничего не пришлось объяснять. — Да, Витя, да. Оставь меня сейчас, мне нужно очень много подумать. Спокойной ночи. — не дожидаясь ответа, она повесила трубку. Он стоял, прислонившись к стене и слушал близкие, частые гудки: — Оставь меня одну, — повторил он — опять это... что такое? Он медленно опустился на диван и уронил лицо в ладони, большие, вспотевшие от волнения и красные. Вспомнилось её лицо, уверенное и стремительное, когда она терялась, и начинала чего-то не понимать, оно не меняло своего выражения, а только глаза становились взволнованными, строгими и ищущими. Вспомнились длинные чёрные ресницы и нераздельные брови, вспомнились зелёные, как еловый хмель, глаза и стало невыносимо от того, что невозможно всё это разлюбить. Он вдруг особенно страшно для себя и трезво понял, что никогда уже не сможет забыть её, стереть из памяти, хоть жизнь и слишком долгая для одной любви, эта любовь, а главное человек, к которому она исходит, слишком неповторимы, чтобы уходя, не остаться с ними. Витя медленно встал и пошёл по комнате, на минуту ему показалось, что это жизнь, и если он дойдёт до конца стенки, то придёт к смерти. Он встал по середине и обессилено остался стоять так в полной тишине и темноте, освещаемый уличным фонарём, висевшем высоко на проводе, и попадающим прямо в его окно. |
||
«Тебя кто-то чего-то лишил! » — четыре слишком правильно сказанные слова били в виски. Аня лежала головой на столе, руки её были скрещены обессилено, протянуты к настольной лампе. — Тебя кто-то чего-то лишил... — тихо повторила она, — Господи, даже он всё знает. Даже он знает это лучше чем я. Она медленно открыла нижний ящик стола и, нервно перебирая его содержимое стала что-то искать, при этом повторяя: — Ты — моя плоть и кровь... — она часто мотала головой и, одной рукой переворачивая большие пачки исписанной бумаги, шарила по картонному дну, смотря в стол. Она на минуту остановилась и посмотрела за окно. Перед глазами всплыл ноябрь, первый день их встречи с Агнессой в школе, и разговор у её дома. Аня была тогда совсем другой, или ей так казалось. Сейчас она, как будто, на 10 лет вперёд повзрослела, всё поняла, осознала и пути ей обратно уже нет... Она вспомнила, как тогда говорила: «Да, я была твоей кровью, но я смогу выйти из тебя...» — и усмехнулась своей смелости и опрометчивости. — Выйти из неё?.. — её голос звучал, как грудной, — Это же невозможно, какая глупость... — она посидела ещё секунду в согнутом положении — какая слабость, — с неожиданным отвращением прибавила она и с грохотом положила на лакированный стол большой складной ножик, изъятый собственноручно когда-то у Гуськова для доселе непонятных целей. Аня долго вертела «игрушку» в руках, рассматривая, не раскрывая лезвия. Это была очень редкая вещь — армейский швейцарский нож с красной рукояткой и нержавеющим блестящим лезвием. Она выдвинула его, приложив при этом немало усилий и стала проводиться холодными пальцами по его острию. Лезвие блестело под светом лампы и больно кололо, оставляя на пальцах тоненькие неглубокие царапинки. — Только кровью же и выйдешь! — Аня плотно сжала рукоятку ножа и вдавив лезвие в кожу нижней фаланги указательного пальца, резко дёрнула нож вниз. Тотчас брызнула кровь, густая и тёмная, лезвие осталось в глубоком порезе. Кровь текла быстрыми мощными струями, проходя ладонь и пачкая край рукава. Аня быстро отложила нож и, слизывая кровь с ладони и с раны, отправилась на кухню. Она всё делала быстро, потому что боялась, что боль пройдёт, а кровь остановится, и тогда уже всё будет бесполезно, хотя что именно, она сама не знала... «Нужно же причинить себе какую-то физическую боль — успокаивала она себя — чтобы хотя бы чего то стоить...» С этой мыслью она отрезала большой кусок свежего лимона и выжила его над раковиной на открытую, всё также безостановочно кровоточащую рану. Она сильно защипала, кровь на несколько мгновений остановилась... Соврасова долго смотрела на это, сжав зубы. И наконец, постояв ещё секунду, наблюдая как падает на белую раковину её кровь, открыла холодную воду и принялась смывать её с железной, крашеной поверхности. Ей жалко было забинтовывать палец, хотелось дать ране ещё пожить и поболеть, но не хотелось, чтобы её кто-то видел. Вернувшись в комнату, обречёно смотря на бинт, через который настойчиво проступало пурпурное пятно, Аня убрала нож, даже не смыв с лезвия кровь, и сняла трубку телефона. Быстро, проговаривая про себя цифры, она набирала номер и то и дело смотрела на лежащую, всё ещё перевернутую лицом вниз фотокарточку. Послышались чистые тихие, очень спокойные гудки и через секунду там возник такой же спокойный и тихий голос Агнессы: — Я вас слушаю. — Что-то мне не спится... Агнесса хотела что-то сказать, на Аня перебила её: — И странный зуд в коленях... Наверное меня кто-то чего-то лишил... — Ох, как хотелось бы мне услышать этот монолог дальше! — Агнессин голос прозвучал на очень повышенных тонах. Соврасова уловила эту перемену и улыбнулась ей. Она и сама была сильно возбуждена видом своей крови, которая проступала через бинт всё сочнее, и приняла этот тон, как переход на равные позиции. Наступило молчание. Аня самодовольно улыбалась краешками губ, Агнесса, мраморно смотря в стенку чёрными стекляшками, вертела телефонный провод и ждала желаемого продолжения. — Послушай, Миланская — Аня почти зашептала — ты не услышишь продолжения этой грустной истории. Я не дам тебе насладиться ещё одной победой, хотя считай, что она у тебя одна, сплошная и нескончаемая... Просто хочу осведомить тебя о том, что лимонный сок, выжатый на рану не причиняет такой боли, какую причиняешь ты...поэтому, спасибо за совет и заботу.. Я принимаю твой вариант отвлечься от одной боли, приняв другую, но всё уже безнадёжно. Больнее наверное не существует... Агнесса улыбнулась: — Хочу напомнить, что рана на второй день становится более чувствительной, поэтому ощущение на ней лимонного сока может усилиться. — А через месяц рана черствеет и становится неощутимой, бездарная ты моя утешительница! — Предлагаю покончить жизнь самоубийством. Чтобы доставить мне удовольствие, можешь сделать это из револьвера моего папочки, который, впрочем, уже почти мой. — Можно будет предварительно ознакомиться с инструментом? — Желание великомученика для Агнессы Миланской — закон — при этих словах она от души засмеялась низко и грубо, то и дело отрываясь спиной от кресла, на котором сидела и склоняя всё ниже голову. Аня представила её в полнейшей точности именно так и, улыбнувшись, сказала: — Только это уже будет поражением... твоим, конечно. Я надеюсь ты это понимаешь? — Тогда предлагаю принять другое решение... Аня перебила её, предвидя дальнейшие слова: — Над ним я подумаю сама, советы откланяются... Агнесса улыбнулась. На другом конце провода послышались далёкие гудки. Она повесила трубку: — Ставлю на то, что ты будешь думать всю ночь. — Сказала она, зная, что Аня её услышала... Соврасова спокойно разглядывала свою рану, делая новую перевязку. Она почти с наслаждением осознавала, что найдёт какое-нибудь применение Агнессиному револьверу. Оставалось решить какое. Аню очень прельщала мысль о том, что если вдруг её не станет на свете, Агнесса примет своё поражение, но так ли это было просто? — Уничтожу... — прошептала она тихо, разрывая с силой бинт на две части. И сразу же вспомнился спокойный голос Агнессы, её красивый смех и ненавистное слово, так режущее изнутри: «Забудь!»... Аня зажала во рту болевший, ноющий палец, и сквозь зубы процедила: — Всё равно уничтожу... |
||
ГЛАВА 6 По случаю дня рожденья директора школы, все старшие классы приходили в парадной форме и с цветами. Мария Романовна, суетливая и раздражительная, бегала по коридорам, проверяя наличие присутствующих учеников и их местонахождение в коридоре школы. Конечно всё это было глупым, но все отлично понимали, что школа даёт ученикам уверенность и разрешает им любить родину, а они за это должны безукоризненно выполнять её требования, даже если они кажутся глупыми. Миланскую, пришедшую в синем платье с белоснежными манжетами, делающим её как никогда притягивающей, встретила радостная, возбуждённая и по-праздничному настроенная руководить Соврасова, одетая в парадную комсомольскую форму, состоявшую из синего пиджака и строгой юбки. На вороте в контраст белоснежной рубашке светился комсомольский значок — почётное, бессменное пролетарское знамя. — Не хочу тебя расстраивать, но придётся сегодня тебе проводить линейку у младших классов. — с этими словами Аня ясно улыбнулась, прищурив зелёные глаза. Агнесса осталась невозмутимой, но лёгкая краска еле заметно проступила на её отточенном лице: — Ты же знаешь, что я такими вещами не занимаюсь. Аня почти по-матерински, с удовольствием взяла её за руку и как бы утешающе сказала: — Сегодня твоя очередь. Агнесса всё это время смотревшая вперёд, резко вдруг посмотрела на её лицо, которое было совсем близко и твёрдо произнесла: — Я не хочу. — Почему? — У меня не получится... — с этими словами она вырвалась и направилась в кабинет. Её встретила немного грустная Таня Рябушева, а бессменная соседка по парте, не покидавшая её ни на одном уроке, Тоня Картошёва сразу принялась говорить, что линейка для младших классов — дело серьёзное, и они считают, что только человек крайне ответственный может взять такое на себя. Агнесса легко улыбнулась и поблагодарила за доверие. А довольная Рябушева, не сводя с неё глаз, пересела на парту ближе, чтобы быть на всякий случай в курсе событий. — Мне кажется, сегодня будет короткий день — сказала громко классная руководительница, входя в класс и со всей силы ударяя журналом об стол. Все затихли, тридцать умов напряглись, внимая нудным речам литераторши. Первый урок литературы по праздникам всегда превращался в классный час, а это значило, что от учащихся требовалось 45 минут максимального терпения и учтивости. — Говорят, её собираются увольнять из-за нас — громко прошептала Тоня, наклонясь к Миланской, которая сидела не двигаясь, меланхолично опустив глаза в парту, привычно скрестив на ней руки и то и дело наклоняла голову на бок.. Она осталась равнодушной к Тониным словам и только, когда классная попросила старосту встать и отчитаться по дежурству класса, подняла глаза, медленно и устало, устремив их на Аню, стройную, стремительную и такую сильную с виду. Та говорила размеренно, тихо и отчетливо. То и дело опуская глаза в график дежурства, и поднимая их на классную, она вопросительно нетерпеливо смотрела, как бы спрашивая, что ещё нужно. Каждый раз, когда она поднимала взгляд на литераторшу, Агнесса улыбалась, слабо и неохотно, но от души чему-то радуясь. — Ну и последнее, ребята, я не знаю кто там у вас по распределению проводит у младших классов линейку. Но дело это очень ответственное, — сказала классная — я бы хотела чтобы вы отнеслись к нему со всей строгостью. Вы же настоящие комсомольцы! А для этого обязателен комсомольский дух, вы должны помнить, что ведёте за собой юных ленинцев... При всех этих словах лицо Миланской искажалось всё больше и больше в мимике болезненности и отвращения. Она, как парализованная, смотрела в парту, и, тихо покачиваясь, то и дело поднимала верхнюю губу, сглатывая с неудовольствием. Её руки теперь лежали на коленях и она, больно сжимая свои пальцы, потирала их, или выгибала в какие-нибудь немыслимые положения. Подняв глаза в сторону учительского стола, она с удивлением поймала на себе внимательный взгляд Соврасовой и отвернулась. Рябушева посмотрела на неё как-то сочувствующе, одобрительно. Агнесса поймала этот взгляд и ответила ленивым и сдержанным. После урока, на выходе из кабинета, Аня неожиданно догнала Миланскую и на бегу, не останавливаясь и не замедляя шага, придвинув к себе за тонкую ткань платья, тихо сказала: — Не волнуйся, я знаю ты не сможешь. Я всё сделаю сама — сказав это, она быстро пошла вперёд и присоединилась к большой толпе пионервожатых и комсомольских старшин, бурно что-то обсуждавших. Агнесса удивлённо улыбнулась и оглядывая её сзади во весь рост, довольно покачала головой. У кабинета математики, который находился на третьем этаже школы собрались 10 — ые классы. Тоня быстро подошла к Рябушевой: — Анька взяла всё на себя. — Почему? — та удивлённо уставилась на Соврасову, стоявшую в стороне и отвлечённо с кем-то разговаривавшую. — Наверное Агнесса не захотела, а Аня же на всё готова ради неё. — Картошёва сложила губы в самодовольной мимике отвращения и вздёрнула брови. Таня оторвалась от Соврасовой и испепеляющим взглядом посмотрела на Тоню: — Можешь не продолжать... — А я и не собиралась. Рябушева сжала ладони: — Ненавижу. Тоня удивилась: — Кого? — Безответно влюблённая эгоистка! — с этими словами она в ярости направилась к Соврасовой. — Вот она, комсомольская дружба! Аня только что закончила свою беседу, и отходя от одноклассника, встала перед Рябушевой, как вкопанная. — Ты о чём, Танюша? — она равнодушно потрепала её по плечу и почти не дожидаясь ответа стала обходить. Таня развернула её, и недолго думая спросила: — Ты знаешь, что случилось? — Нет, не знаю. А что случилось? — с этими словами она машинально стала искать глазами Миланскую и когда наткнулась на её невозмутимый профиль, смотрящий в окно с чуть прищуренными глазами, успокоилась и перевела взгляд на Таню. Таня вдруг решила, что если Гуськова нет в школе, значит с ним что-нибудь случилось и, испугавшись своим мыслям быстро отвернулась. Аня пожала плечами и с улыбкой направилась к окну, у которого стояла Агнесса. — Спасибо за то, что избавила меня от счастья играть из себя самоотверженную комсомолку... — этими словами она встретила Аню. — Мне приятно избавить тебя хотя бы от какого-то удовольствия — она потрепала Агнессу за лямку белого шёлкового передничка — Агнесса, ты принесла мне то, что обещала? Миланская расплылась в дружелюбной улыбке: — Конечно! — она помолчала — И я с нетерпением жду твоего решения... — Ты знаешь, я думала сегодня всю ночь, и решила, что убью тебя! — с этими словами она несколько болезненно улыбнулась и на полном серьёзе посмотрела в бездыханные Агнессины глаза. — Ты решила выйти из меня кровью, не так ли? — Агнесса стояла опираясь руками на подоконник, и то и дело прислонялась лбом к стеклу. Аня опустила глаза и уставилась в пол. Она почувствовала, как кружится её голова и подумала, что сказанные ей слова были слишком серьёзны. — Не так ли? — повторила Агнесса. — Да. — тихо сказала та, уже потому что ответить было нечего. — Запомни, дитя. После того, как ты собственноручно убьёшь меня, — она ещё раз отчеканила — собственноручно убьёшь..., мой образ будет преследовать тебя везде и повсюду всю твою жизнь. Ты будешь видеть меня в каждом и слышать мой голос даже ночью. Вот это я тебе обещаю и настаиваю, чтобы ты это запомнила, потому что после того, как всё произойдёт, и ты увидишь меня вдруг опять, не подозревая, что это совсем не я, ты вспомнишь этот день и наш разговор. Подумай, нужно ли тебе такое избавление... — она осталась стоять в полном спокойствии, медленно следя глазами за редкими снежинками, аккуратно падавшими на землю. Аня тяжело выдохнула: — Я передумала. — Очень жаль! Рябушева наблюдала всю эту сцену любопытными глазами, жадно впиваясь в каждую мимику Миланской и то и дело переводя недовольный взгляд на Соврасову. Конечно, к своему счастью, она не знала о чём они разговаривают, но как только Аня отошла к другому, далёкому окну, она тотчас медленным шагом направилась к ней. Подойдя, она долго рассматривала её грустный профиль и опущенные губы, и наконец, сказала: — Ты знаешь, что случилось с Гуськовым? Аня равнодушно продолжала смотреть в окно, не меняясь ни в одном мускуле: — Нет, не знаю. А что случилось с Гуськовым? — она была явно раздражена Таниным присутствием, и не реагировала на её слова. Рябушева, поражённая таким неслыханным бесчувствием и равнодушием, вся покраснела, сжала пальцы и напряглась. Она была готова ударить в данную минуту Соврасову, но понимала, что не имеет на это никакого права: — Он разбился — вдруг неожиданно прохрипела она и сама ужаснулась сказанному. Аня повернула к ней своё лицо, её глаза потемнели и казались чёрными, лицо покрылось красными, выделяющимися пятнами, скулы напряглись, брови сдвинулись и задрожали. Её лицо выражало ненависть и страх, пальцы напряжённо впивались в подоконник. Как сотни маленьких вспышек вдруг вспомнился их последний разговор, его лицо, совершенно не соответствующее цвету смоляных волос, смешные, длинные пальцы; в ушах звенел его тихий голос: «Я люблю тебя больше жизни..», последний их вечер, вспомнилось, что он заходил к ней вчера два раза, а её не было дома, и что никто никогда её лучше, чем он, утешить не мог. В ушах звоном колоколов зазвенели фразы: «Ты любишь жизнь как таковую, но не ценишь её в человеке...» Она вдруг почувствовала слабость в коленях, и крепко держась за подоконник, зашептала: — Да, да, Витя, да...Ты опять был прав...Агнесса! — она вдруг дико закричала, и, сорвавшись побежала к подоконнику, у которого стояла Миланская. Таня испуганно пошла за ней. — Агнесса, дай мне оружие! — она в бешенстве стала хвататься руками за Агнессу, как будто боялась, что вот-вот упадёт. Таня в ужасе стала бегать вокруг неё, не зная какие слова найти, чтобы успокоить, и сказать, что всё это ложь. — Агнесса, дай револьвер, ты же обещала! — кричала она на весь школьный коридор. Миланская,спокойная и серьёзная, взяла её за локти со словами: — Тих, тих, тихо... — она крепко обняла Аню за талию и дала ей опереться на стену. — Успокойся, успокойся, будет тебе револьвер, успокойся только сначала. И всё ещё не отпуская её, она аккуратно поддерживая Аню со спины, заглядывала к ней в лицо и спрашивала: — Ну, всё, всё? Успокоилась?... Соврасова, напряжённо мотала головой, и стоя в чуть согнутом положении и тяжело дыша, держала Агнессины руки у себя на животе, не отпуская их и не отдавая. — Успокоилась? Таня медленно подошла и виновато посмотрела на Агнессу: — Аня, извини, это — ложь, это всё ложь! Соврасова, не знающая, что такое не простить человека, нервно мотала головой и тяжело дыша, заправляя растрепавшиеся волосы за уши, говорила: — Да, да. Всё хорошо. Слова Богу, что это ложь... всё хорошо. И Витенька жив, и всё это было ложью. Она откинулась на стенку и уставилась в потолок, её глаза опять стали хвойно-зелёными, кожа тёмной, а дыхание ровным и тихим. Лицо опять приняло выражение равнодушное и спокойное, и руки отпустили Агнессины, а ноги стояли уверенно в скрещенном положении и держали её стройное тело. Миланская посмотрела на Таню дружелюбно снисходительно кивнув головой в знак прощения и улыбнулась, когда она стала извиняться. Она одобрительно покачала головой, когда та сказала, что Ане нужно научиться не прощать людей, и утешительно погладила Таню по плечу на её слова о том, что она во всём виновата: — Не переживай ты так — сказала она тихо — человеку нужно иногда говорить такие вещи, чтобы он понимал цену окружающим его... Таня удивлённо посмотрела в чёрные Агнессины глаза, очень выразительные, влекущие и умные. Они смотрели сквозь неё, и оттого казалось, видели её всю, смотрели в душу, раздевая её и разбрасывая медленно по тоненьким лоскуткам. Ей стало жутко и она отвернулась. Агнесса барабанила красивыми пальцами по подоконнику и, чуть подняв верхнюю губу, всё ещё изучала Рябушеву с выражением явного пренебрежительного внимания, скорее высказывая собственное превосходство, нежели указывая на незначительность её. В школьном коридоре никого не было, все давно зашли в кабинет математики. Три одиноких фигуры, стоявшие вразброс можно было увидеть в конце коридора у последних окон. — Между прочим мы прогуливаем урок, — сказала всё ещё напуганная чем-то Таня и несмело пошла к кабинету. Когда длинная дверь за ней закрылась, Агнесса подошла к Ане, стоявшей всё в той же позе, уставившись глазами в потолок. Внимательно переводя взгляд с одной её части лица на другую, Миланская скрестила руки на груди и придвинула своё лицо близко к ней: — Чтобы ты сделала с этим револьвером, если бы я дала его тебе, хотела бы я знать! Аня медленно перевела взгляд на Агнессу Миланскую: — Как странно. Как мгновенно можно понять цену человека в этой жизни, и что он значит для тебя. — И так же мгновенно эту цену забыть. Аня тихо наклонила голову и, как на что-то очень страшное обречённая, вздохнула. — И всё же я не услышала ответа на мой вопрос. Соврасова начала горячеть и чувствовать как медленно краснеет. Она понимала, что естественно даже бы если Агнесса дала ей в школьном коридоре револьвер, она бы ничего с ним не сделала. Миланская поняла Анино волнение, проследила как она медленно заливается краской, и сказала: — Никогда ничего не нужно превращать в трагедию. Даже если у тебя действительно случилось горе, поверь мне, не стоит распространять его на других, тем более так демонстративно. Люди могут принять это за дешёвый театр и будут правы, хотя и ошибутся. — А почему я должна делать что-то для людей? — Потому что в жизни самое главное это — человек... Не тебе ли с твоей любовью к ней это знать, как ни кому иному? Соврасова тихо опустилась на корточки, прислоняясь спиной к стене: — Учи меня, учи, я такая глупая. Ты ведь сама понимаешь, Агнесса, что все мои лучшие качества в сравнении с твоим умением понимать жизнь — ничто! — Не ты ли говорила: никогда не сравнивай людей...? — Я! — Ну так а почему ты вдруг откинула это правило, такое мудрое? — Просто каждый раз, когда я запутываюсь в жизни окончательно, я бегу к тебе. А ты, в противовес мне, наоборот, кажется, знаешь эту жизнь, лучше себя самой и так смело в ней ориентируешься, что опять убиваешь меня, опять вдавливаешь и даёшь понять, что я без тебя — никто... Что я без тебя не проживу ни секунды. Агнесса хотела что-то сказать, но Аня перебила её: — Дай мне договорить... Это всё ужасно! Я понимаю, как это безнадёжно. Ты знаешь, когда я думаю о прожитой жизни и начинаю вспоминать её, то с ужасом понимаю, что перед глазами всплывают воспоминания только связанные с тобой. Больше ничего я не помню...Это плохо? — она подняла голову на Агнессу, которая стояла, оперевшись вытянутой рукой на стену и смотрела в другой конец коридора. — Не знаю... у меня тоже самое! Аня изумлённо посмотрела на неё и встала, чтобы видеть Агнессино лицо на одном уровне со своим: — Ты сказала, у тебя тоже самое??? Миланская долго смотрела на Аню с улыбкой, поглаживая рукой свои ключицы, и наконец сказала: — Тебе послышалось... Ты услышала просто то, что хотела! — с этими словами она резко отодвинулась от стенки и направившись к дверям кабинета, зашла в них. Через четыре минуты прозвенел звонок с урока. |
||
* * * Аня сидела наклонившись вперёд за маленькой пыльной партой, стоявшей в углу пионерской комнаты. Она вслушивалась в напряжённую тишину, то и дело наблюдая взглядом за крошечными пылинками кружащимися в луче солнца. За дверью было тихо, только иногда можно было услышать чьи-нибудь быстрые шаги или лёгкий звонкий смех детей. Соврасова быстро барабанила пальцами по стулу и время от времени в нерешительности подавалась всем телом вперёд, чтобы встать, но что-то удерживало её и она оставалась по прежнему бездейственной и напряжённой. Неожиданно с шумом распахнулась дверь и на пороге появилась Тоня Корташёва вместе с Гуськовым. Не ожидавшая увидеть последнего, Аня вспыхнула улыбкой детского счастья и тут же подойдя к нему быстро сжала его руки: — У тебя всё хорошо? Он удивлённо улыбнулся и быстро проводясь рукой по волосам, выразительно спросил: — А что, меня здесь не хватало? Тоня, которая уже заняла Анино место и судорожно раскладывала на столе какие-то листы, звонко рассмеялась, не отрываясь от своего занятия. Соврасова медленно села на стул, стоявший рядом и отпустив его руку, посмотрела снизу: — Просто тебя не было, поэтому я спросила... Все замолчали. Витя взял гитару и, тихо перебирая струны, со скрипом переставляя аккорды, напряжённо уставился в противоположную стену, пытаясь подобрать какую-то мелодию. — Анька, у меня всё-таки родители разводятся, — Тоня быстро посмотрела на Соврасову и её зрачки задрожали — они сегодня подали все документы. Витя остановился. Аня резко повернулась к нему: — Продолжай. Она быстро встала и подошла к Тоне. Гуськов спокойно посмотрел в пол и начал играть какую-то старую мелодию, грустную и незнакомую. — Так ты с мамой...? — Аня села напротив Картошёвой с напряжением разглядывая её лицо. Та отрицательно покачала головой: — С отцом. — Почему, Тоня? — Ну а ты не понимаешь?... Аня резко подалась вперёд, подвинувшись к Тоне ближе: — Как, скажи мне, ты сможешь жить с человеком, которого никогда не любила и не любишь? — А мне образование получать нужно? — Это не должно быть для тебя никак взаимосвязано. Как ты можешь использовать своего родного отца и оставлять маму, для каких-то личных целей? — А почему нет?... Тоня хотела договорить, но Аня перебила её: — Так на правах кого ты будешь с ним жить, если ты не считаешь его своим отцом? — Мне плевать... Аня замолчала, её тёмно-зелёные яркие глаза с непониманием и отвращением смотрели на Тоню, не мигая и не отпуская её взглядом: — Ты комсомолка...? — вдруг спросила она. — Как это?... Ну конечно... — В душе, я спрашиваю, комсомолка? — Конечно. — И тем не менее это тебе не мешает мыслить так. — Аня, ну что я могу поделать, ты сама ведь всё понимаешь. Твоя Миланская тоже ненавидит отца — она сделала ударение на слове «ненавидит» и повысила голос — и не смотря на это — с ним живёт!.. Аня исподлобья посмотрела на Картошёву: — Ты что? — Я... ничего... — А причём здесь Агнесса? — Мне же нужно было кого-то тебе в пример привести, вот я и вспомнила твою любимую подругу. Внезапно хлопнула дверь: Витя вышел из комнаты. Аня наклонила голову и посмотрела в пол: — У неё мама умерла год назад. От инсульта. — Она подняла на Тоню глаза, полные тоски, отчуждённости и укора. — Всё?... Больше ничего не хочешь узнать?... Тоня вытянула свои длинные руки и долго на них смотрела: — Нет. — Мы больше на эту тему не говорим. Будем считать, что я не слышала всего того, что ты мне сказала. Тоня покачала головой в знак согласия с лицом, выражающим смирение и недовольство. — Почему ты так к ней трепетно относишься? — в ней заиграло уязвлённое самолюбие яркой личности и невыраженного авторитета. Аня встала: — Как вы мне все надоели... —??? Соврасова опёрлась на спинку стула и, покачивая его, посмотрела на удивлённую Тоню. —... со своей однотипностью, со своей дешёвой показной принципиальностью — её глаза стали зажигаться всё большим азартом — наделанной заботой. Как, наверное, вам своей жизни не хватает, что так хочется вмешаться в чью-то ещё. Как хочется внедриться в чьи-то отношения, не зная совсем что за ними стоит, и насколько они серьёзны... — Аня... — Тонино лицо изменилось и стало виновато — испуганным. Но Соврасова её не слушала, она направилась к двери и, хлопнув ей с размаху, вышла. — Ты что, Вить, ушёл? — спросила она громко, быстрым шагом подходя к сидящёму на скамеечке с гитарой, Гуськову. — Не захотел мешать. — Он взглянул исподлобья. — Ну ладно... — она села рядом и обняла его за плечи. Витя продолжал медленно перебирать струны что-то тихо бубня, и в такт чему-то морщил брови морщил брови, силясь вспомнить слова песни. Аня заулыбалась, смотря задумчиво в пол, и начала машинально подсказывать ему слова, а он смиренно их повторял, и их голоса слились тихо и спокойно в какой-то очень грустной песне о чьей-то любви, которой наступает конец... и звонкое эхо мёртвого школьного коридора подхватило их и унесло. |
||
ГЛАВА 7 Последние дни декабря. Холод и снег. Новый год наступал стремительно и без оглядки. Большие квадратные окна актового зала горели ярко и насыщено, излучая то далёкое веселье и долгожданное секундное счастье, в которое всегда до конца не верится. Праздничная суета и непонятное гостеприимство наполнили зал, лица светились общей светлой радостью, которая всё более заразительно передавалась всем без каких-либо на то причин. После завершения представления старших классов и поздравлений учителей с Новым Годом, напряжённая душная атмосфера стала наполнятся ожиданием главной части праздничного Огонька — танцев. Картошёва, раскрасневшаяся и взволнованная подошла к Соврасовой, которая стояла, держа руки на груди, и напряжённо высматривала в полутёмном просторном зале знакомые силуэты: — Если ты ищешь Витю, то он на втором этаже. Аня признательно посмотрела на Тоню и направилась к выходу, срывая попутно с большой, стоявшей в углу ёлки, тонкие нити дождика. Сразу после её исчезновения в длинных дверях, в зал вошла Агнесса в чёрном сатиновом платье с широким воротником и длинными рукавами на позолоченных пуговицах.. Блестящие туфли на маленькой застёжке приподнимали её и делали сантиметров на шесть выше. Всё это чрезвычайно привлекало всеобщее внимание и пытливые взоры восхищения, зависти и ошеломления, относящиеся не только к учащимся но и к учителям, беспрестанно преследовали её и держали на прицеле. — Я никого не ищу. — дружелюбно ответила Агнесса качая белокурой головой с распущенными волосами, завивающимися у плеч и бессменным пробором, на услужливый вопрос своей классной о том, кого она ищет. Тоня непрерывно смотрела на неё, стоя в тёмном углу зала и то и дело отводила глаза, когда та поворачивала голову в её сторону. — Мне ничего не нужно говорить, я помню... Спасибо, всё очень понравилось, — услышала она за спиной и, обернувшись, увидела радостную Таню Рябушеву, которая всё ещё провожала влюблённым взглядом своего собеседника, учителя по физике, молодого импозантного мужчину, черноволосого с маленькими гитлеровскими усиками. — Ты действительно надеешься, что он всё поймёт? — с ухмылкой спросила Тоня, оглядывая Танино голубое платье и мысленно примеряя его на себя. — Что ты имеешь в виду? — она всё ещё иногда оборачивалась и искала того, кого только что провожала глазами, — У меня абсолютно никаких чувств к нему нет. Просто он очень интересный. Тоня рассмеялась, а Рябушева с грустью добавила: — Ну он ведь учитель... Она резко обернулась и направилась с раскинутыми руками на встречу Ане Соврасовой, которая шла к ним быстрым шагом, то и дело поправляя на бёдрах чёрную прямую юбку. — Ты просто прелесть! — она накинулась к ней на плечи и долго, навязчиво обнимая, накручивала на указательный палец шёлковый локон её хвостика, плотно закреплённого на затылке чёрной лентой. Они посмотрели друг на друга, безмолвно полу открыв рты, с разительно схожими мимиками, Аня вопросительно помотала головой, Рябушева зажала нижнюю губу и ответила тем же жестом. Наблюдавшая за ними всё это время Тоня поняла, что речь идёт о Миланской, которую Таня ещё не видела и поэтому не знает, где она. Та, которую искали, появилась на пороге тёмного зала, освещаемая ярким жёлтым светом коридора в тот же момент, её белокурая голова не поворачивалась из стороны в сторону, а оставалась в одном положении. В ней было всё напряжённо-красиво. Красота эта ускользающая делала её лицо таким сосредоточенным, живущим каждой секундой и переживающим её вдоль и поперёк, она, казалось, с грустью и страхом разоблачения отпускала её... Руки, красивые от природы, и мягкие тонкие пальцы, поражающие своей гутаперчивостью, нервно сжимали носовой платочек, а глаза искали и сражались... Мимо неё промелькнули две танцующие пары и она узнала силуэты — Тоня в облегающих её пацанковую фигурку вельветовых клешах с каким-то высоким блондином — выпускником прошлого года и за ними складная пара Вити и Ани Соврасовой. Он крепко держал её за талию и смотря всем разворотом лица на неё что-то тихо говорил, Агнесса долго вглядывалась в его чёрный рукав пиджака, выделявшийся, как чёрная полоска или лента на белоснежной Аниной рубашке. Соврасова увидела Агнессу и повернула голову в её сторону, она медленно оглядела её с ног до головы, и наконец посмотрев в лицо — безразличным долгим жестом отвернулась. Миланская почувствовала на плече тяжёлую руку, какой-то высокий незнакомый ей юноша с длинными, по-девичьи, ресницами и эластичными выразительными губами предложил потанцевать. Агнесса отметила про себя невероятную женственность его лица и с неудовольствием отведя взгляд, отказалась. — Ты очень хорошо читал Вознесенского, — улыбнулась Аня, не смотря в Витино лицо. Он наклонился ухом к её губам, чтобы лучше слышать и почувствовал дыхание, ровное и горячее. — Ты что-нибудь выпила? — спросил он, зная,что она выпила рюмку коньяка, который принесли выпускники. — Да.... Что очень весёлая? — спросила она с некоторой пристыженностью, потому что её не хотелось показаться крайне весёлой. — Нет, просто какая-то возбуждённая... Музыка замолчала и пары медленно расходились в разные концы зала, счастливые и несчастные, все были по-детски опьянены своим скромным праздником и до трогательности боялись хоть на минуту его упустить. — Мне кажется, ты очень одинока... — сказала Аня, подходя со спины к Миланской и смотря в чёрную ткань платья на её заплечьях. Агнесса посмотрела на неё в тёмное стекло окна: — Твоя проницательность — просто бриллиант...Только ему не хватает стоящей оправы. Предлагаю — сдержанность?! Коньяк хорошо дал в голову и стучал в висках, Аня не хотела себя контролировать и с трудом пыталась не говорить именно то, что думает. Она прекрасно держалась, но внутренне её состояние не соответствовало привычному, потому что, не чувствуя за собой никакого долга и абсолютно утратив любые чувства неприязни и неуверенности, она тихо сказала: — Не нужно мне ничего предлагать, Агнесса. Твои предложения — пустота, ты можешь дать мне что-нибудь кроме них? Миланская удивлённо повернулась, и их лица оказались прямо друг на против друга. Они стояли одни в маленьком коридорчике, заворачивавшем от актового зала в виде прохода, он был почти не освещён, но света было достаточно, чтобы образовать на полу две длинные тени и два бледных силуэта у окна — два несравнимо красивых профиля, таких разных, но одинаково ненавидящих. — Я могу собирать их в шкатулочку, — продолжала Аня, чувствуя, что горячеет — в шкатулочку из под бижутерии... и закрывать на ключик... но, клянусь, что готова выкинуть их всех, подобно хламу, взамен на одно твоё обещание. Обещание чего-нибудь, мне всё — равно чего, только чтобы оно было не пустым... — А что тебе нужно? Соврасова облокотилась на подоконник и прижалась щекой к холодному окну, её высокие каблуки неровно стояли на маленькой кафельной плитке и она то и дело проваливалась и разбивалась. — Не дразни меня... — тихо выдохнула она. — Дразнят тем, чего очень хочется. Аня вдруг показалось, что Миланская положила руку ей на плечо и сейчас горячо обнимет её и успокоит, чего никогда не бывало раньше, но секунды пропадали в пустоту, а Анины плечи оставались всё такими же холодными и одинокими...Самообман овладел ею так предательски ненадолго...Глаза были готовы расплакаться, но губы улыбались и дрожали. Она понимала как в этот момент беспомощна и закрывала красное от стыда лицо тонким смуглыми руками с нежно обрисованными пястями. — Нет ничего хуже любви к тебе... — сказала она. — Я полагаю она не ко мне одной. Аня усмехнулась и посмотрела в щель полуоткрытой двери, за которой были видны танцующие силуэты и слышна музыка. Агнесса посмотрела на неё, внимательно оглядывая почти чёрные волосы и выделенный нераздельными бровями лоб: — Есть люди, любить которых — беспроигрышная лотерея. Всё равно что-нибудь от них в ответ да получишь. Не потому что они не умеют отказывать,... а потому что они не любят отказывать-ся! Аня тяжело, задрожав грудью, вздохнула, ей было нечего ответить, она знала, что Агнесса говоря эти фразы имела в виду её и почти соглашалась с ними. — Я тебя прошу. Ответь мне очень честно. Что тебе от меня нужно? — она посмотрела на Агнессу, её глаза засветились безумием и страхом. — Всё... кроме тайны. — быстро ответила та. — Тайну ты получила в первую очередь! — Так забери её у меня. Внезапно дверь открылась и появился Витя, он посмотрел на Агнессу серьёзным долгим и изучающим взглядом и дал руку Ане: — Пойдём танцевать. Она проследила его взгляд и когда они вышли, крепко сжимая его руку, спросила: — Скажи, ведь тебе она нравится? — она с удовольствием ждала его ответа. И знала, что каким бы он не был, получит почти физическое удовольствие от него и ещё больше от того, какое содержание имел сам вопрос... Витя развернул её к себе и крепко обнял за спину: — Мне она абсолютно не нравится... — его голос был твёрдым и презрительным. Она полностью поверила и положив голову ему на плечо, с улыбкой про себя повторила: «Мне она абсолютно не нравится.» — и глаза устало посмотрели в пол. Там за дверью стояла Миланская, строгая и красивая, вся в чёрном цвете, с лицом самой безупречности и мёртвыми глазами, светящимися жизнью, с почти так смело безмолвными губами, готовыми к страху и не боящимися его, и с сумасшедшим взглядом безумной души. Ёлка мигала яркими цветами, периодически освещая танцующих и меняя их одежды в разные цвета. Агнесса прошла через весь зал, легко ступая высокими стройными каблуками, расширенными книзу, и напрягая голени. Она вышла в тихий пустой коридор и стала быстро дёргать ручки кабинетов, пытаясь найти открытый. В конце коридора находился кабинет географии, большой и проветренный, с тремя огромными окнами, выходившими к тихому садику, с аллеей, освещённой длинными фонарями. Миланская распахнула последнее окно и села на подоконник с ногами, смотря с третьего этажа на заснеженную аллею, круглые, одетые в белые пуховые шубы деревья и спокойные, мёртвые скамеечки. Снег, редкий, спокойный и очень мелкий медленно кружился вокруг ярких фонарей, и в такт весёлой музыки, доносившейся сверху, ложился на землю. Всё было по-новогоднему завораживающе, редкие прохожие иногда появлявшиеся на улице, и те казались счастливыми. Агнесса сидела запрокинув голову и выгнув длинную шею. Её глаза были закрыты, спина всё больше вжималась в стекло откинутого окна, согнутые в коленях ноги стояли твёрдо, упираясь в гладко выкрашенную стенку подоконника. В классе было темно, но иногда, когда она поворачивала голову и оглядывала его, ей были видны не только силуэты низких парт, но и напечатанный рисунок карты мира, распластавшейся на чёрной огромной доске. Темнота заполнялась умопомрачительным одиночеством, щемящем, страшным и вечным. И казалось, что если бы вдруг в этой темноте кто-нибудь застрелился, ничего удивительного бы в этом не было и только стены, узнавшие весь ужас предсмертного страха, были бы так неодолимо бессильны перед откровениями жалкой бездарной смертной, которая покончила жизнью так отвратительно дерзко... Дверь тихо скрипнула и Агнесса услышала чьи-то твёрдые, направляющиеся прямо к ней шаги. Кто-то аккуратно прошёл между парт и сел на стул стоявший рядом с ней, напротив окна. Затем послышался тяжёлый вздох, глубокий и напряжённый. Агнесса открыла глаза но никого не увидела, а стул остался пустым и безмолвным, каким она поставила его пред собой, чтобы иногда ставить на него ногу. Было странно думать, что она находится в классе одна, потому что этот вздох явно прозвучал в откровенной тишине класса, но Миланской было почти всё равно кто находится за её спиной, она опять запрокинула голову и закрыла глаза. Несколько секунд спустя, открыв глаза снова, Агнесса увидела в отражение окна белую мужскую рубашку и, повернув голову, наткнулась взглядом на безмолвного Гуськова, который сидел на соседнем подоконнике, откинувшись спиной на закрытое окно и держа рукой галстук. Он смотрел в стену и не изменив направления своего взгляда, не дрогнув ни мускулом, спросил, не мешает ли он. Лицо Агнессы, так не привыкшее к искреннему выражению эмоций, выразило откровенное удивление и интерес, она долго изучала его глазами, оставляя его вопрос безответным, и наконец, приняв прежнее положение, отвернувшись к окну, сказала тихо и с улыбкой: — Уже поздно... — при этих словах она скрестила руки на груди и посмотрела вниз. Витя повернул голову и посмотрел на её спину. Агнесса слегка дрожала и сжимала локти ладонями, вжимаясь в себя. — Боюсь, я знаю, зачем ты здесь. — сказала она. — Думаю, что нет. Я пришёл сюда, потому что захотелось побыть одному. Просто беспричинное желание. — Она оказалось целесообразным. Он встал и подошёл ближе, всё ещё оставаясь стоять за её спиной: — Теперь и я это вижу... Она нетерпеливо ждала продолжения, упираясь взглядом в стенку и то и дело сдвигая брови в мимике недовольства, вызванном холодом и снегом, бьющим ей в лицо. — Я хотел с тобой поговорить. Но думал, что не удастся. Агнесса тяжело вздохнула и вытянула ноги по всей длине: — Мне тебя не видно, сокол. — слова были сказаны с нежным сарказмом, переходящим в саркастическую нежность. Он обогнул парту, стоящую прямо перед ней, и сел на неё. Она быстро откинула голову: — Не нужно меня рассматривать, я попросила просто сделать так, чтобы я тебя видела. Он усмехнулся, держа руки на весу и пытаясь попасть растопыренными пальцами одной своей руки на горячие и потные пальцы другой. — Мы с тобой очень мало друг друга знаем, хотя я и слышал о тебе неоднократно. Не моё дело как ты относишься к Ане, и что вас связывает. Но раз уж так сильно между вами что-то бьётся, я хочу услышать ответ на мой единственный вопрос... Они посмотрели друг на друга, Агнесса — с интересом, Витя — с наигранным спокойствием. —... Кто она тебе? — Я не собираюсь быть с тобой откровенной. — Но не будешь же ты мне лгать. Миланская помедлила: — Аня... она — моя невосполненная половина. Всё, что есть в ней — не достаёт во мне. Я смотрю на неё и понимаю, что мне не хватает любви к людям и желания жизни, чтобы существовать так, как она. Она — это часть меня, из меня ушедшая и во мне не родившаяся. Это несбывшаяся я! Никогда не сумевшая внушить себе, что материальность — это — нормально... Вот в чём наше отличие. — она помолчала — А в остальном — мы — одна сплошная невозможность. — Невозможность? — Да... но одна, и сплошная... — вот главные слова! Наступило молчание. Витя встал и подошёл к подоконнику, оперевшись на него рукой, он посмотрел в окно. Агнесса медленно перебирала пальцами тёмный носовой платочек, сложенный вчетверо. Она то и дело разглаживала его и вглядывалась, сквозь темноту в мягкую, тонкую ткань, ощупывая её и сжимая между пальцев. — Ты чувствуешь невосполнимость своей любви к ней? — вдруг спросила она, блеснув глазами на пустоте синего неба. Витя беспокойно посмотрел на черты её лица, неестественно выделяющиеся в темноте: — Я никогда не думаю об этом. Я никогда не думаю о своей к ней любви... Агнесса повернулась и взглянула на него, чуть подняв брови. — Это слишком для меня... — он облокотился на подоконник — думать о своей собственной любви к кому-то это почти тоже самое, что хвалить её перед самим собой. А я не имею право этого делать. — Кто ты ей, что имеешь так мало прав...? — Ангел — хранитель. — Что-то я не вижу, чтобы ты охранял её от опасности. — О какой опасности ты говоришь? — он сделал ударение на «ты». — Её самая главная опасность — не уметь прощать глупость! — Это не так страшно... Агнесса слегка улыбнулась и вдохнула полные лёгкие холодного воздуха: — Ошибаешься, сокол... Вокруг неё слишком много мусора. — Что... виновные слишком? — Витя неотрывно смотрел в её глаза, теперь он нашёл их и понял. Не следовало пытаться постигнуть их выражение, его не было, или оно было за ними, но не в них. А в самих глазах были две пластинки чёрного металла, два холодных осколка какого-то красивого драгоценного камня — два неживых зрачка. «Какая несчастная!» — подумал он. И не отпуская взглядом всё ещё этих глаз, вдохнул ноздрями непонятную жару, охватившую его, и не просто его, а только его одного, он знал это и чему-то внутренне удивлялся. — Виновные? — голос Миланской стал звонким — Хуже... —??? — Свиньи! — А это не взаимосвязано? — Нет, дорогой мой... Каждый из нас порочен, но порочность эта двулика. Одни из нас — убийцы, воры, насильники и изменники, они живут таким пороком, как — грех. А иные — кающиеся, наверное трусливые, правильные и тихие...они никогда не согрешат перед Богом, а если вдруг и сделают это — сразу замолят свой грех, залижут его, дабы оставить свою душу чистой и безгрешной... их порочность другая — она страшнее в сотни раз, потому что остаётся безнаказанной. Это — свинство. Наш Господь обещал казнить за убийство, но не сказал, что накажет за предательство... Ты никогда не задумывался, что подставить человека — хуже чем убить его? Витя хотел что-то сказать, но Агнесса не дала ему: — И ещё... грешность — это приобретённое — проходящие... и вновь приобретённое, да к тому же и неизбежное. А свинство — врождённое и неперестающее! — Что же делать? — он задал этот вопрос отчасти с искренним страхом безвыходности, но больше с неопровержимым желанием услышать на него её ответ. — Этим людям в мире делать нечего! Но их всё больше и они слепнут от своего бесчинства и гадкости. Витя замолчал и посмотрел на её руки, ласково поглаживающие друг друга, и на гутаперчивые непослушные пальцы. Он ужаснулся тому, что увидел в них. А увидел он силу. Эти руки были так похожи на её глаза и так же несравненно безжизненны, как выражение зрачков. Но именно от их смертельного равнодушия и более того — бездушия, казалось, что они созданы для того, чтобы выжить в той жизни, о которой она говорит... и они знают как с ней бороться, но не хотят, потому что не любят её. — Подскажи, что мне делать, как ангелу-хранителю? — Мыкаться... — А что будешь делать ты? Нежная, почти материнская улыбка оживила её глаза: — Утверждаться... — тихо произнесла она, коснувшись ладонью его руки... и сразу же отдёрнув её, отвернулась в открытое окно... с таким лицом, будто у неё всё ещё впереди, и этого «всего» так много, что не хочется об этом думать, а хочется только ощущать — неповторимость, бессмертие, силу, власть, красоту, и принадлежность всего этого к себе. Из распахнутых окон актового зала доносились голоса и звуки музыки. Глубокий мужской голос пел: Издалека долго... Бежит река Волга... Витя улыбнулся и придвинулся ближе к окну, вслушиваясь в давно знакомое звучание всеми любимой песни. Миланская взглянула на него, медленно провела глазами по резким чертам его юношеского лица и, спустив аккуратным движением ноги, спрыгнула с подоконника. Гуськов не смотрел в её сторону, но увидел, как что-то выпало у неё из рук, вещь осталась незамеченной и скоро Витя провожал её чёткие, удаляющиеся поспешно и ритмично шаги, звонко исчезающие в лёдяной тишине коридора... На полу, под подоконником чернело что-то непонятное, напоминающее лоскут материи. Витя осторожно наклонился и подняв вещь, поднёс к свету, ложащемуся лунной дорожкой на белую поверхность подоконника... В его ладони лежал носовой платок — аккуратно выглаженный и вчетверо сложенный, небольшого размера тёмно синего цвета с четырьмя тонкими полосками белой нити по краям. Это был, вероятно, мужской аксессуар, его краешки были смяты чьими-то сильными, гутаперчивыми пальцами... и руки той, что мяла их пахли терпкими женскими духами, которые, скорее всего, продавались на прилавках московских магазинов под бессменным названием «Красная Москва»... |
||
ГЛАВА 8 31о — го декабря выпало много снега. Москва суетилась. Все бегали, куда-то спешили, чего-то искали, но при этом всё — с радостью, счастьем, верой в то, что наступающий год принесёт с собой что-то невообразимо нежданное и сверхъестественное. Аня Соврасова лежала спиной на плоском, натянутом красным одеялом, диване и, подняв к потолку руки, разглядывала снизу серебряное кольцо с круглым гематитом, надетое на тонкий безымянный палец. Анино лицо в отдельности не выражало той расслабленности, которую нёс в себе её род занятия. Оно было сосредоточенным, грустным и серьёзным. Иногда она опускала руки по швам и так лежала в полной недвижимости и бездействии. В глубоком кресле напротив, напряжённая и недовольная сидела Рябушева, а у дверного косяка, скрестив тонкие руки на груди, то и дело смотря в пол, безжизненно выделялась худая фигура Тони Картошёвой. Все трое молчали, вслушиваясь в глухие звуки падающего снега. — Ну Анька, как же так, — опять принялась за своё Тоня — мы ведь договаривались — Новый Год — вместе. Соврасова резко встала и, подойдя к окну, не смотря на Тоню, тихо сказала: — Всё, девочки. Я уже вам ответила, что Новый Год встречаю в кругу семьи. Таня посмотрела в её сторону: — Я очень расстроена. — Извини. — Ну, Аня, все будут. Почти весь класс. Не можешь ты не прийти. И Витька... — А причём тут он? — Нет, ну просто к тому, что мне это непонятно. Тоня резко вдруг выпрямилась и, мельком взглянув на Таню, подошла к Соврасовой: — Ну Агнессу мы пригласить не решились. Анино лицо выразило болезненную усталость: — Не нужно, не нужно...всё, девочки. Ничего больше не нужно, если я сказала, что так хочу... Мне просто надоело всё это. — Что? Аня обессилено посмотрела на Рябушеву, не выражая никаких эмоций и не собираясь отвечать на её пустой и глупый вопрос. — Ладно, Таня, пойдём... — Тоня осторожно потянула её за рукав. — Если что, позвони. — обратилась она к Соврасовой, которая бездумно уставилась в пол и с трудом, глотая комок слёз, беспричинных и давящих, что-то вспоминала. Когда они были уже у дверей, Таня повернулась, пропустив Картошёву вперёд: — Аня, — она тихо понизила голос и наклонилась — я через полчаса приду... Та удивлённо кивнула головой и захлопнула массивную дверь. На светлой улице, просторной и тихой, все веселье наступающего праздника казалось ещё более явным, и девочки невольно заулыбались чему-то неясному, и обнадёживающему. — Ничего, может быть ещё передумает, — сказала Тоня, начиная возвращаться в реальность, и лицо её приняло прежнее мученическое выражение. — Бедненькая... — с грустью проговорила Таня. Картошёва удивилась: — Бедненькая? — Мне жалко её. Она не заслужила всего этого. — Чего, Таня? — К ней все так несправедливы. Тоня бездумно посмотрела в сторону, ей наскучило общество Рябушевой и было трудно слушать её уверенные изречения относительно того, что Соврасовой нужно помочь. Она слишком уважала Аню, её самостоятельность и свободу, чтобы позволять себе даже думать о какой-то помощи. Таня не унималась: — Новый Год — самый праздничный праздник... нельзя же так ни с того, ни с сего... Картошёва затянула потуже завязки на шапке нервным движением и покосилась на Таню: — Ты — требовательная, она — нет. Они остановились у троллейбусной остановки: — Ну ладно, целую — до встречи! — Тоня поспешно помахала Тане и побежала за уходившим троллейбусом. Та долго провожала её взглядом и когда троллейбус скрылся за поворотом, медленно развернулась и пошла обратно, заходя по дороге во все существующие на пути магазины. Рябушева поднялась на площадку Аниной квартиры — дверь была приоткрыта. Таня с испугом вбежала в полутёмную квартиру и увидела Соврасову, мирно сидящую в кресле в узком кумачового цвета платье, поглаживающую своими босыми ступнями лакированный паркет. — Ты что делаешь? — вопрос прозвучал глупо, но испуг, выраженный на Танином лице сглаживал его абсурдность и даже заставлял проникнуться к ней снисходительной благодарностью. Аня улыбнулась: — Тебя жду. — А дверь? — Чтобы не вставать... ты захлопнула её за собой? Таня не ответила, она пошла снимать верхнюю одежду, и сконфужено вернулась в комнату, волоча за собой тапки, которые были ей явно велики. На журнальном столике рядом с Аниной протянутой рукой стоял длинный хрустальный стакан с налитой в нём жидкостью непонятного цвета. А под столом неясно вырисовывалась уже пустая бутылка семнадцатиградусного портвейна. Таня беспомощно плюхнулась на стул с длинной спинкой, обитой кожей: — Анька, да что с тобой? — Да, нет, ничего... — она безрадостно посмотрела в пол — ты такая смешная! — Что? — Ты очень смешная!!! — она свесилась наполовину с кресла и начала проводиться кистями по полу. Её лицо при этом имело выражение самое сосредоточенное и серьёзное, с каким пишут письмо или читают его. Если бы посторонний, не испытывавший к Ане Соврасовой никаких чувств и не переживавший данной ситуации, посмотрел на неё со стороны, то, наверное, засмеялся бы — так комично и беспомощно она выглядела, но лицо Тани выражало трагическую безысходность и страх, даже губы её, улыбающиеся холодно, криво, и, чаще, как правило, некстати — дрожали и сжимались. — Что случилось, Аня? — этот вопрос был задан почти требовательно и претендовал на честный ответ. — Просто не хочется провожать этот год... — Нет... не то. Аня улыбнулась той смелой проницательности, которая была так неумело выражена в словах, и взглянула в Танины глаза: — Твоя проницательность — бриллиант — сказала она, слабо шевеля губами. Рябушева в тишине ждала продолжения этого бессмысленного монолога, терпеливо предвещая в мыслях, что она услышит следующим. — Как сделать так, чтобы человек тебя услышал и понял? — Аня подняла голову с аккуратно убранными в кичку волосами. — Нужно сначала понять хочет ли он тебя слушать. — А что нужнее для пианино — левая педаль или правая? Рябушева задумчиво посмотрела на Анины пальцы, которыми она с силой сжимала ободок стакана. — А почему ты спросила??? — Левой педалью — гасят, правой педалью — длят...помнишь, как у Цветаевой? Таня кивнула головой, хотя и не поняла о чём речь: — Ну и что дальше? Аня вздохнула: — А то, что я — это правая педаль, а она — левая! — Да ты про Агнессу что ли? — Рябушева с беспомощной злостью сжала пальцы. Соврасова молчала и не слушала Таню. Она смотрела в потолок, запрокинув голову и то и дело щурила глаза, которые теперь особенно выделялись на побледневшем лице. — Я не знаю что делать... у всех жизнь меняется, а у меня она — стоит на одном месте. Я не знаю куда деться, как себя от неё отъединить. Если восковые фигуры срастаются, то подставь под огонь одну из них — расплавится и вторая. Неужели нельзя так, чтобы только кто-то один?... — Тогда нужно найти где они соединяются и там разрезать... — А у нас не найти, эта линия у нас давно исчезла, мы стали уже почти — одним целым... единым комком воска, нераздельностью! — Ты всё это придумываешь, Аня. Вы абсолютно разные. — Нет, я говорю тебе! — Аня почти закричала, её голос сорвался и охрип. — Я без неё — ничто! Она мне почти мать, потому что она меня создала, понимаешь ты, она! И всё что я сейчас — это только от неё. И вся моя жизнь и любовь к людям, и моя внезапность и боль, и душа, и кровь — всё, всё это создано ей, без неё я была пустышкой, никому не нужной и почти спустившейся до собственного безразличия. — Неужели нет ничего того, что бы тебя от неё отталкивало, ты вглядись? — Сумасшедшая... ты не понимаешь ничего. Как можно открывать глаза на пороки того, кого любишь? — Аня, любить можно по-разному... — Да невозможно любить по-разному. Любовь — только одна, одна единственная и неизбежная... — она помолчала — такой и не существует. Рябушева усмехнулась с презрением: — Как в этой твоей книжечке, да...? долготерпящая, незавидующая, милосердствующая, ты о ней? — Нет! — Тогда я не понимаю... — Любовь должна нести в себе какой-то смысл, она должна исходить не из сердца, а прежде всего из разума, она должна иметь прочный фундамент, какую то цель, какую то идею — общее основание. Просто чувства — это пустота, вечный огонь, горящий на керосине... — А в твоей любви к ней, что — фундамент? — Она учит меня жить. — Учит?.. — Да, учит дышать в воде. — Ну она же не будет с тобой всю твою жизнь... Аня в задумчивости намотала на указательный палец прядь густых волос и, со страхом неизбежности глядя Тане в глаза почти на выдохе прошептала: — Всю жизнь, как на качелях... Её взлёт — моё падение. Радио громко запело какую-то новогоднюю песню. Лица обеих осветила всегда до конца непонятная и сладкая грусть. Юность — это период, когда незащищённая душа подвержена каждому колебанию внешнего мира. Это счастливая жизнь, потому что любой вздох, любая нота, незаметное дуновение ветра может превратить безделушку в самую драгоценную на земле вещь, пусть это ощущение будет секундным, но оно останется неотъемлемой частью сердца. Они, скорее всего, это понимали, потому что сидели в недвижении, не желая расставаться с этим трогательно — утрированным ощущением страдания, какого-то неизбежного, страшного и невозвратного. — Как холодно, — Аня съёжилась и поджала под себя ноги. — Аня, — Рябушева заговорила тихо и неуверенно, бездумно смотря на ее запястья и одновременно спрашивая себя почему они такие исцарапанные. На смуглой коже Аниных рук выделялись порезы непонятного происхождения, их было по четыре на каждом запястье — так нельзя было изранить случайно или поспешно. — Зачем ты делаешь свою жизнь такой трудной? — продолжала она, не отрывая взгляда от рук Соврасовой, но теперь уже разглядывая их с интересом. Аня молча смотрела в окно, не отвечая и почти не дыша. У неё поднималась температура и, дрожа всем телом, прижав руки к груди, она то и дело закрывала глаза, не давая вытекать слезам, скапливающимся от жара и головной боли. Её глаза были зелено-хмельные, блестящие, будто электрический свет отражался в них, глубокие, излучающие невыносимое смирение и одновременно бесстрашную силу. Это были умных, независимых, страдающих, несчастных, янтарно-малахитовых огонька в январской ночи.... И неужели были люди, которые смотрели в её глаза и не видели, как жизнь влюблена в них... — Анька, у нас такая прекрасная юность... Неужели ты не хочешь жить так, как она тебя ведёт? — Ты сказала — у нас?... — Ну да... Она такая светлая, счастливая, пламенная... — Пламенная юность?... — А разве нет?... Соврасова почти со злостью затянула ремнём, который лежал рядом на кресле, бледные ступни босых ног и посмотрела на Таню: — Не знаю... У меня юность — светловолосая с холодными каменными скулами. У неё губы цвета «королёк», а глаза чернее крыла ворона...и ей всё не терпится живой крови напиться... Таня ошарашено и испуганно уставилась своими коричневыми исподлобья смотрящими глазами в тёплый воздух уютной комнаты, освещённой дневным солнцем. Сегодня наступал новый год, шёл новый отсчёт их «пламенной юности», новая жизнь стучалась в окна, и они становились всё дальше друг от друга: уже такие взрослые и серьёзные, разъединяемые тысячью невидимых вёрст, холоднее которых только — утрата. Тани уже не было в комнате. Она шла по радостной снежной праздничной улице, сливающаяся с толпой и сдерживающая слёзы страха и непонимания, которые скопились в горле и рвались наружу, пеленая глаза... А Соврасова осталась в своём одиноком страдании, безнадёжности и смирении, которые так ненавистно для неё и невыносимо бились о кожу, будоража и возбуждая её, так до смерти больно ломили суставы и тянули сухожилия, ложились пылью на дрожащие зрачки, вызывая слёзы и стягивали суставы простуженной шеи, пахнущей детским кремом и терпкой геранью. Она глотала одну за другой таблетки валидола и запивала их крепким заварным кофе, мечтая умереть в судорогах боли, и всеми недрами расколотой души презирая суицид... |
||
* * * — Нет, они совсем ничем не пахнут — говорила Тоня, держа в руке бокал искристого шампанского и вдыхая хвойную веточку. Сзади её придерживал за плечи светловолосый Паша Терентьев — выпускник прошлого года и студент математического факультета МГУ. — Мне кажется, нет смысла никого больше ждать — сказала Таня, входившая в комнату, — итак все уже пришли, давайте садиться за стол... — с этими словами она украдкой взглянула на мрачно стоявшего у серванта Витю и покраснела. Хозяйкой квартиры, в которой отмечался праздник, была Рябушева. Она не производила впечатления человека, непосредственно владеющего на данный вечер этой трехкомнатной площадкой для веселья. Гости бродили по всем комнатам и закуткам, предоставляя себе полную свободу действий. «Что хотите, то и делайте.» — было им сказано при входе на порог и они смело воспользовались такой безалаберной доброжелательностью, так не свойственной Тане Рябушевой. В 11- ом часу вечера праздник уже был в разгаре, наступил момент, когда веселье начало переходить все границы и превращалось в нечто, граничащее с лёгким беспутством. Только один Гуськов всё время стоял у окна, не поворачиваясь ни на секунду лицом в комнату и напряжённо выглядывал все женские фигурки, которые только проскальзывали по тихой заснеженной улице. — Да не отчаивайся, Гуськов. Всё бывает. Жизнь складывается по разному. — говорил невысокий коренастый юноша, стоявший рядом и в упор смотревший на Витю. Коренастого звали Рома Акерманн. Он учился в одном классе с Соврасовой, Рябушевой, Гуськовым, и прочими. Его называли «хороший малый» и никогда не звали по фамилии не от уважения, а от равнодушия. Сам Акерманн часто при знакомстве приписывал своей фамилии различные окончания, то «ов», то «ин», а то и «ко», ему было безразлично к какой нации принадлежать, за исключением той, непосредственным представителем которой он являлся на самом деле. У него был большой, гладкий, как фарфоровое блюдечко, лоб и, загнутый кверху искривленный, вероятно какой то детской шалостью, нос, глаза Акерманна всегда шустрые, даже несколько шаловливые, быстро бегали с одного предмета на другой и никогда не смотрели в упор. Рома Акерманн нравился Лене Ходуновой, а ему, в свою очередь, с начальных классов теребила юношеское сердечко девочка-одуванчик, невидная и никем не любимая, ставшая в последствие первой активисткой и гордой комсомолкой, Аня Соврасова...у последней же, как мы знаем, была совсем своя жизнь, в которой Рома Акерманн — светлоглазый эрудит и «хороший малый», никакой роли не играл, если вообще помнился... Всё было до смехотворности трагично, но — вполне серьёзно... Витя быстро вытащил руки из карманов и внимательно посмотрел на одноклассника: — Тебе есть чем заняться? — Вроде, да. — Вот и занимайся этим. Акерманна все любили за то, что всерьёз и по-настоящему его не любил никто. Он никогда ни на кого не обижался и не предъявлял претензий. Вот и теперь он, пропустив Витин тон мимо ушей, кротко улыбнулся и отошёл. Гуськов ненавидел себя за то, что не может материализовать свои эмоции, хотя как это делается он не понимал. Ему досаждало его инертное присутствие на этом празднике и завладевшее им чувство бесповоротного горя. В конце концов, жизнь действительно складывается по-разному, но его именно это то и пугало, что Жизнь складывается, а не он, своими собственными руками, её складывает для себя и кого-то ещё... конечно он хорошо понимал для кого! Через пять минут, после наступления 1974 года, Гуськов уже шёл по ярко освещённому тротуару, засунув руки в карманы пальто. Он остановился напротив Аниных окон и вгляделся. Они безмолвно смотрели на него своими огромными чёрными стёклами, разделёнными на три части. Странно было видеть среди потока весёлых окон, из которых выглядывали новогодние ёлки, окутанные гирляндами, эти — неживые, страшные и всё же безмерно родные, за которыми тихо спит, уткнувшись красивым лицом в подушку и дыша в тёмные свои локоны, Аня Соврасова... |
||
ГЛАВА 9 С мокрым от слёз лицом и дрожащими губами, Тоня Картошёва сидела по середине огромной комнаты, на светлом полу и разбирала свои вещи, медленно складывая их в чемодан. — Уезжай, уезжай к отцу, мне только лучше будет. — кричала, надрываясь и срывая голос, мать. — Я же сказала тебе, что давно всё это решила. Зачем теперь придираться?- зло отвечала Тоня и утирала бесконечные льющиеся слёзы. Тонина мама — Людмила Николаевна, была уникальной женщиной. Самой любимой мамой среди всех её подруг. Небольшого роста, светловолосая с огромными серо-коричневыми глазами и матовым аккуратной формы лицом. Говорила Людмила Николаевна, вкрадчиво, напрягая и вытягивая губы, она гомерически сжимала их уголки, что делало её молодое лицо очень привлекательным. Она работала зубным врачом в городской московской поликлинике. — Наташенька, — говорила она своей ассистентке, старшей медсестре — вы только, ради Бога, никому не говорите, что я трачу так много спирта. — При этом она выплёскивала на красивые юношеские ладони спирт, и, проворно потирая их, нервно и быстро смеялась. — Они ведь подумают, что я его пью. — Ну, что вы, Людмила Николаевна. — отвечала ассистентка, благоговея и гордясь, тем, что к ней обращаются со столь доверительными просьбами. На лице Людмилы Николаевны никогда не возможно было прочитать эмоций, оно не выражало ничего, кроме приветливости. Зато умные глаза, смотревшие над марлевой повязкой, всегда отражали её мысли, переживания и чувства. Пациенты чувствовали это всей собственной зубной болью и всегда смотрели в эти глаза с ужасом и вниманием — в них, как в зеркале, был виден открытый беспомощный рот. Они не ошибались: когда случай был тяжёлый, глаза становились бесстрашными, беспристрастными и холодными, даже отчуждение появлялось в их выражении, при лёгком же случае, когда всё было «раз плюнуть», её глаза сосредоточенно и хитро смотрели в рот и напряжённо улыбались... Самые нежные чувства питала к Тониной маме Аня Соврасова, не переставая всякий раз посылать ей искренние приветы и поздравления с различными праздниками. Это чувство было почти взаимным, «почти» лишь потому, что Людмила Николаевна не так сильно отдавалась ему, как Аня, но столь же проникновенно думала и ощущала его, когда оно приходило. И теперь, когда Тоня рассорилась с мамой окончательно, в первый же день наступившего года, ей больше всего не хотелось, чтобы об этом знала Аня и она всячески уже заранее придумывала себе отговорки и оправдания перед ней. Людмила Николаевна, в старом белом выстиранном и поглаженном халате, стояла, опираясь на косяк и бездумно смотрела на макушку дочери, которая, чувствуя её взгляд, не поднимала головы, а продолжала демонстративно устраивать оставшиеся вещи по краям чемодана. — Может быть ты всё передумаешь и поймешь, что... — она не договорила. — Нет, мама. Я всё решила. Что ты мне можешь дать? Эти слова звучали бесчувственно именно потому, что были уже десять раз обдуманы. Картошёва не любила свою мать, потому что не знала, за что ее можно любить. В том, что это её собственная мама, она не сомневалась, но и не понимала, зачем обязательно учитывать это, когда дело касалось её личной выгоды. В кругу семьи у Картошёвой появлялась странная болезнь. Быть может, из-за невыраженности своей личности среди одноклассников, она начинала страдать крайним индивидуализмом дома. Это случалось приступами, порой переходящими границы. — Мне ничего от тебя не нужно. Живи без меня, так даже легче! — были её последние слова, кинутые на пол перед матерью, прежде чем за её тонкой спиной, с выделяющимся кривым позвоночником, закрылась дверь. — Вот и всё... — тихо прошептала та, после оглушительного хлопка массивной деревянной двери, и в бессилье опуская руки, аккуратно уронила голову на грудь. |
||
* * * — Внимание, пассажирам, отъезжающим в Ленинград. Просим всех перейти на четвёртую платформу. — Прозвучал монотонный женский голос, наполнив гул морозного и снежного утра новостью. Миланская внимательно проследила подъезжающий к платформе «Ленинградского» вокзала поезд и, неторопливым шагом, прищурившись смотря в толпу, пошла в сказанном направлении. Кто-то сзади окликнул её и она обернулась. — Здравствуй, Агнесса, вот так неожиданность... — закутанная в толстый зелёный шарф и пряча в него пол-лица, Картошёва смотрела своими живыми пытливыми глазами, морщась от снега, и улыбалась. — Для меня тоже, — равнодушно ответила та и повернула голову в ту сторону, откуда послышались протяжные звуки трубы, играющей какой-то военный марш. — Ты тоже кого-нибудь встречаешь? — Я никого не встречаю. Я уезжаю. Тоня изумлённо выкатила свои большие глаза и даже высунула лицо из шарфа. — Что навсегда? Агнесса прозрачно от души засмеялась: — Похоже, чтоб я уезжала навсегда?[Z1] Картошёва оглядела её и поняла абсурдность своего вопроса: у Агнессы не было с собой ничего, кроме маленькой замшевой сумочки, перекинутой через плечо. Наступила пауза. — А я вот отца встречаю... — невыразительно прокомментировала Тоня. Когда она подняла глаза на Агнессу, то увидела, что та, не отрываясь изучает её лицо с невинной откровенностью, расширив зрачки и то и дело, напрягая большие глаза. Её губ касалась лёгкая улыбка, несколько ленивая и одновременно нежная. Тоня смущённо заулыбалась, напрягая краешки губ, как её мама и потупилась в Агнессины сапоги — из плотной блестящей кожи и тоненькими молниями сзади голеней. Внезапно она вскинула глаза в сторону и напряжённо замахала рукой: — Извини, я побежала! — крикнула она в толпу Миланской, которая всё ещё продолжала смотреть в то место, где когда-то светилось лицо Тони. Она явно была довольна таким удачным окончанием их встречи, и, вскинув прядь белокурых волос с выпуклого лба, направилась к поезду. В купе, кроме Агнессы, было ещё два человека: две незнакомые друг другу молодые женщины Одна из них сидела у окна и утомленно смотрела на раму — деревянную и грязную. Она так выкручивала свои пальцы — почти ломала их. Агнесса для себя решила, что чуть позже займется изучением этого публичного выкручивания — страдания. Ногти той были короткие, тонкие и маленькие, пальцы — тёмно-бежевые, немного болезненные. Все вместе в ней вызывало только недобрую, мешающую жалость. Вторая девушка производила куда более приятное впечатление. Она была невысокая, кудрявая и солнечная. Острый нос смягчали чрезвычайно пухлые губы, голубые глаза добавляли кротости и наивности. В отличие от первой, она была такая пухлая и мягкая как подушка — хотелось прислонится к ней и, кажется, можно было уснуть от тепла и уюта. — Девушки, бельё! — прервал Агнесины мысли голос проводника. Когда от Москвы было пройдено уже по меньшей мере полтора часа, уютная спутница вдруг заговорила: — Меня зовут Наташа... Давайте знакомиться. Агнесса, приятно поражённая звучанием её голоса, вскинула чёрные глаза и медленно тяжёло переводя их с плеч на волосы, с волос на губы, а с губ на руки, ответила: — Агнесса. — Очень красивое имя. Та, к которой относились столь нежные слова, расплылась в сладкой томной улыбке и хотела что-то сказать, но первая незнакомка, всё это время не перестававшая хрустеть пальцами оживилась: — Какие милые сапожки... — Если они вам так нравятся я могу снять их и поставить на стол. Та в ужасе вскинула дрожащие глаза: — Зачем? — пролепетала она полушёпотом. — Чтобы любоваться... Незнакомка затрясла головой: — Не понимаю... — она покраснела и занервничала так, будто её в чём-то обвинили и ждут оправданий. Поезд резко с пронзительным шумом затормозил и Агнесса, откинувшись сначала к стенке, затем мягко перепала в объятия своей соседки. Та при этом звонко засмеялась и затрясла кучерявой головой. Миланская тяжело вдохнула запах её шерстяного свитера и долгим жестом, плавно отпрянула, зацепившись при этом малахитным кольцом за белую простынь. — Извиняюсь — сказала она. — Ничего, — быстро ответила Наташа. — Это было даже приятно. — не глядя в их сторону звонко произнесла незнакомка... за что Агнесса прониклась к ней нескрываемой симпатией, нежностью и чрезмерной заботой... Она скрестила ноги и посмотрев на свои сапоги, улыбнулась. Наступило молчание, сопровождаемое ритмичным стуком колёс и быстро бьющегося в стекло яркого снега. Медленно шевеля своими пухлыми блестящими губами Наташа обратилась к Миланской: — А вы к кому-то едете? Агнесса замолчала и посмотрела в пол. Её волосы были растрёпаны, но пробор выделялся чётко и ровно, поэтому причудливая незнакомка, сидевшая напротив теперь уставилась в него своими бирюзовыми глазами. — Я ни к кому не еду... — ответила тихо она после тяжёлого молчания. — А вы были до этого в Ленинграде? — Неоднократно. — Значит просто так — гостили? Миланская нетерпеливо поправила быстрым движением большие рукава тёмной рубашки, застёгнутой до верхней пуговицы и закрывающей стойким воротником её красивую шею. — Нет, я раньше там жила... — ответила она и взглянула на собеседницу,которая почему-то испугавшись её взгляда — непонятного и тёмного, прекратила задавать вопросы и подавлено замолчала. Миланская, без сомнений, заинтересовала Наташу и ей так хотелось за ней наблюдать, что она постоянно, как это только возможно, пыталась задавать той различные вопросы или обращаться с небольшими пустыми просьбами. Всё ехали в полном молчании. Незнакомка напротив смотрела в окно, безжизненно моргая глазами, Наташа читала книгу в зелёном переплёте с золотой надписью, Миланская непрерывно о чём-то думала, напряжённо разглаживая руками большой белый носовой платок, ежеминутно её зрачки вздрагивали и она, отрывая их от бледных сильных рук, поднимала глаза на противоположную стенку, оставляя на ней мысленно чёрные пятна от своего взгляда. Внезапно Наташа опять взглянула на неё мельком и, уже не сдерживая откровенного любопытства и желания поболтать, сказала: — Какая прелесть, — смотря игрушечным взглядом на платок в Агнессиных руках. На белом шёлковом платочке красовался вензель, вышитый красными шёрстяными нитками, чьей-то заботливой умелой рукой. Вензель изображал две буквы «А. С.», написанные ниткой почти друг под другом, кручёным подчерком. — Это ваше... — почти утвердительно сказала она, посмотрев только на первую букву. Платок этот принадлежал Ане Соврасовой, был вышит её рукой и подарен Агнессе два года назад в Ленинграде, в то самое лето их первой встречи. — Нет... — коротко ответила Миланская на утверждение соседки и, не дожидаясь продолжения разговора, не взглянув ни на Наташу, ни на причудливую спутницу напротив, быстрым движением рванулась к двери на горький запах коричневого узкого коридора. Агнесса взялась обеими руками за поручень у окна, и бездушно провожая взглядом вёрсты, склонила голову к правому плечу. Она вспомнила вдруг отчётливо случай из своего детства, который она никогда с тех пор не вспоминала, потому что он оставил глубокий страх в её душе. Будучи семилетним ребёнком, проводя свои летние дни на даче в Зеленогорске, одним белым вечером она сидела на скамейке в сквере в полном одиночестве. Вдруг сзади неподалёку послышались голоса. Какие-то мужики, пьяные и безобразные, волочили за собой собаку — большую и беспородную, они держались крепко за её ошейник и, матерясь, божились, что убьют её. Всё это было непонятно Агнессе и она ничуть не испугалась, но встала и пошла к дому, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. На полпути она остановилась и торопливым шагом, спотыкаясь на худеньких ножках и краснея от жары, направилась обратно в парк. Когда она вернулась к скамейке, голоса уже давно исчезли и рядом никого не было. Агнесса постояла некоторое время в раздумье и, не зная что ей делать и зачем она вернулась, села на скамейку и опять уставилась в землю... но что-то заставило её оглянуться. То что врезалось в её память, она увидела не сразу. Тихо поднявшись и медленно аккуратно ступая по траве Агнесса подошла к густым кустам и раздвинула их. Оцепенение, беззвучный ужас, страх — все это — мертвая собака на красной траве. дышавшая. Это был тот самый пёс, которого тащили мужики. Его грязная шерсть почти сливалась с багровостью густой крови, тело лежало неподвижно, глаза были широко открыты, а из пасти, скалящейся злобной сумасшедшей улыбкой, торчал большой узел грязной простыни, который, видимо, засунули собаке в рот, с тем, чтобы она не издавала звуков. Агнесса не знала и не видела кто это сделал, хоть она и слышала голоса, говорившие, как будто предупреждавшие её о том, что должно случиться.... но даже это её не пугало так, как факт того, что она не видела как они это делали, не знала зачем, не понимала откуда у этих нечестивых тварей столько зверства и ненависти. Ужас тайны и непостижимости окутал её, соединив вместе с трупом изуродованной собаки, которая казалось упрекала и смеялась — Никто не видел, как это происходило, никто не видел ничего, только я... но меня уже нет. Агнесса уцепилась рукой за кустарник, чтобы не упасть и побежала со всей силы прочь, не оборачиваясь. Она бежала с закрытыми глазами, она силилась всё забыть, она знала, что всё увиденное — чистая правда, но не понимала почему всё это случилось именно с ней. Это воспоминание ушло от неё по мере появления других поворотов судьбы, наполнивших её жизнь так дерзко быстро и бесповоротно. Миланская, неожиданно для себя, начала бесстрастно додумывать или даже придумывать все подробности смерти несчастной собаки и представлять это в своём изощрённом воображении в совершенно разных интерпретациях, на какие только был способен её глубокий ум. Вся эта тренировка жестокости уже не вызвала у нее никаких эмоций и даже уже почти становилась скучной для неё; единственная мысль, которая удивляла её несомненно, когда она опускала глаза на платок, всё ёще оставшийся в руках и смотрела на вензель — на две странные что-то выражающие буквы, Агнесса задавала себе вопрос, неужели всё это одна и та же жизнь: и эта собака, и её отец с его обрюзглым лицом, одетый с иголочки, и Аня Соврасова и теперь эта подобострастная соседка по купе... всё это Агнесса никак не могла связать воедино и назвать своей собственно одной жизнью... но это была именно она, та которую Аня, любила, и та которую Агнесса ненавидела. Она вспомнила всех, кого оставила в Москве и угодливо-глупое лицо Тони Картошёвой в предпрощальные минуты. Ей показалось что все они так далеки от неё, и что разъединяет их не расстояние, а время... Когда Миланская вернулась в купе, Наташи не было, а жалкая соседка уставилась на неё своими стеклянными тупыми глазами, не отрываясь от своего занятия. Агнесса застала её уминающей со всей патетической решимостью первосортный куриный холодец, при этом бирюзовые глаза спутницы нервно бегали по тарелке, на которой он лежал, и то и дело боязливо косились на только что вошедшую. Агнесса в явной нерешимости постояла у двери и, развернувшись к выходу, застыла на минуту. Процесс остановился: соседка перестала жевать и буд-то делала что-то постыдное в чужом присутствии затихла. Миланская нашла жертву, с высоты своих 170 сантиметров презрения сказала — Приятного аппетита, — поддаваясь вперёд, и сжимая от усилия губы, открыла плоскую тяжёлую дверь... — Спасибо... — пролепетала жалкая, после оглушительного хлопка. Агнесса упала спиной на только что закрытую снаружи дверь и бессильно посмотрела в окно коридора: — Бесподобно... — выдохнула она. Её семнадцатилетний опыт позволял ей воспринимать и отзываться о вещах именно с той точностью, которую желал выразить её блестящий ум. «Бесподобным» в её понимании могло быть исключительно уродство, красота у каждого своя, но она непременно похожа, считала Миланская, а уродства слишком много, но все его проявления абсолютно неповторимы, непередаваемы и не имеют себе равных. Это догматическое мнение было для неё так же естественно и необъяснимо, как то, что излюбленное «Кош-шмар!» — с долгим «ша» можно было от неё услышать исключительно в тех случаях, когда Агнесса отзывалась о каком-то неземном, почти сверхъестественном удовольствии. Всё это было естественно, блестяще и неотъемлемо от этого уникального самородка чего-то бесподобного, с выгравированным на нём именем Агнесса Миланская... |
||
* * * — Ну нет, Таня... Этого не может быть. — говорила Соврасова, бездумно смотря на воротничок Таниной кофты, опираясь рукой на оконную раму кабинета математики. Таня не ответила и с силой выжала грязную тряпку в ведро: — Нет, я не понимаю, что за правила драить на каникулах школу... — не унималась она. Аня всё так же бездумно смотрела на её воротник: — Ну ты же не всю школу драишь... И вообще, что за выходки, — продолжала она монотонно, не повышая и не понижая голоса, — мы — самый старший класс и должны подавать пример младшим. Комсомолу запрещено уклонятся от труда... — она остановилась. Это была речь, которую уже слышали от неё не единожды, чем больше Аня её говорила, тем больше она понимала её бессмысленность, неприличность и напыщенность. Но ровно столько, сколько не нравилась эта речь Ане, она восхищала Рябушеву. И теперь, та, с явным удовольствием оглядывала подругу: — Теперь я тебя узнаю, Анька, — сказала она почти счастливо, — теперь я понимаю, что никогда не ошибалась в тебе. Ты всё такая же... Соврасова вспомнила свою тревогу и её причину. Взгляд из бездумного и несчастного превратился в ясный и вопрошающий: — Так как ты сказала? — спросила громко она. — Про что, сказала?... Да это не я — я ничего не знаю. Тонька сказала, что видела её сегодня утром, часов в девять на вокзале... — она замолчала. — И она уезжала... — продолжила за Рябушеву Аня нетерпеливым тоном. Та помедлила: — Н — ну да, в Ленинград... Наступила пауза, которую прервала Лена Ходунова, вбежавшая в класс со шваброй: — Ну, девчонки, давайте быстрее, — взмолилась она — уже последний кабинет осталось убрать. Надоело...домой быстрей!...? Аня резко повернула голову в её сторону и вышла из кабинета. — С Соврасовой что-нибудь случилось? — тихо спросила Лена, когда шаги той стихли в коридоре. Рябушева вздёрнула бровь: —...А — у Соврасовой есть имя, бэ — это очень лично! Привыкшая к пароксизмам глупого высокомерия, свойственным Рябушевой, Лена только кивнула головой, в знак того, что она всё поняла, хотя ничего и не знает. |
||
Спустя два часа Тоня выматывала Аню своими разговорами на кухне: — Мне важно это сказать именно тебе. Аня посмотрела в окно, на улице уже темнело серым, безоблачным фоном холодного неба. — М-мх... — выдохнула Соврасова и поставила перед Тоней чашку с чаем. — Я ушла всё-таки от матери. Аня упёрлась вытянутыми напряжёнными руками в стул и принялась раскачиваться, грустно смотря своим глубоким нежным взглядом на Тоню: — Ничего ты не понимаешь. — Ну а что я должна понимать? — Инквизиторские замашки... — прокомментировала Соврасова, раздражившись её глупым и нелепым по содержанию вопросом. — Путаешь меня с Агнессой Миланской... — кинула падкая на оскорбления Картошёва. Аня не удивилась: — Кстати, ты её сегодня видела? Раздосадованная тем, что её попытка задеть Аню за живое не удалась, Тоня поникла: — Да... видела... на вокзале, она уез... — Не нужно продолжать, — перебила Соврасова, — я знаю. — Слушай, — Тоня посмотрела на зеленоватую жидкость в своей кружке — что это за чай? Аня от души, холодно засмеялась: — Отравить хочу... Картошёва обиделась: — Я серьёзно спрашиваю. — Жасминовый. — Вылей эту пакость, и дай мне что-нибудь другое. Аня посмотрела на Картошёву через плечо... они помолчали друг другу в глаза и заулыбались, душевно и умилённо. В таких моментах они друг друга понимали как никто другой, эти отношения существовали исключительно между ними. Их жизненные трагедии никогда не бывали общими, но они разительно совпадали по времени... и в такие периоды их сближало всё — от дружеских объятий, до пасквилянтских припадков... а последнее было свойственно им обеим в одинаковой степени и исключительно по отношению друг к другу. Они рассмеялись и Соврасова обняла Тоню за плечи: — Я тя обожаю... — И я тебя... Они долго напряжённо молчали и наконец одновременно расплакались, крепко сжав руки друг друга и боясь ослабить объятия хотя бы на одну секунду в неблагодарно убегающем дне... |
||
* * * В это время поезд уже медленно подходил к платформе «Московского» вокзала Ленинграда. Когда Миланская спускалась с крутых ступенек поезда, она слышала, как её бывшая соседка — та самая причудливая и неразговорчивая быстро тараторила какому-то молодому человеку: — У неё такой милый был проборчик, направо, если я не ошибаюсь... Ну вот, я себе такой же сделаю... Очень, очень мне понравился, ты знаешь, я такого даже не видела, ну прямо, как у киноактрисы... — её писклявый голос удалялся. Агнесса встряхнула головой и пошла прочь, вдоль заснеженной людной платформы, на которой уже зажигали фонари. На лестничной площадке было тихо. Миланская быстро достала из сумки длинный ключ и открыла дверь. В тёмной прихожей их ленинградской квартиры запахло старым пыльным картоном и кожаной мебелью. Агнесса с силой захлопнула дверь. Её чёрные, атласные зрачки зло впивались в темноту и искали выход в комнату, освещённую тусклым полувечерним светом с улицы. Миланская бросила сумку и не проходя дальше прихожей, припала щекой к холодной стене, распластав по ней руки. Глаза задрожали, прищурились и наполнились страстной злобой, мгновенье и их бездушное выражение превратилось в умоляющее и беспомощное. Густая прядь белокурых волос упала на лоб Агнессы. — Мама... — прошептала она... |
||
ГЛАВА 10 Им всем было всё равно, когда закончится их школа ; им всем до конца не верилось, что она вообще может закончиться, они привыкли к ней, как к юности,и тешили себя тем, что школа будет вечно держать их в своих ладонях, обмывая тёплой волной уносящего времени, название которой — опора... Они (это было принято) не любили дерзкой самостоятельности, они считали себя детьми своей страны, а значит она, как и школа, всегда поддержит их и спасёт... не даст умереть... Последний день каникул, отнюдь не январский, был долгим и скучным для каждого, как и каждая последняя, остаточная капля чегот — о, он был похож на несформированного ребёнка-инвалида, который и умереть не может и жить не должен. Витя, закутанный в длинное пальто, делающее его на десяток лет старше, то и дело поправляя тёплой рукой чёрную копну отросших волос, спадавшую на глаза, сидел прямо перед зданием школы и смотрел на вялых голубей, медленно передвигающихся по замёрзшей земле. В воздухе пахло холодным грейпфрутом. Он начал отбивать загорелыми пальцами по скамейке, когда в узком переулке показались две фигурки. — Было приятно увидеть тебя на соревнованиях, — с упрёком, не успев ещё приблизиться, прокомментировала Соврасова, расстёгивая верхние пуговицы пальто. Витя не пришёл на городские соревнования по гимнастике, в которых она участвовала, и он знал, что виноват, но не хотел оправдываться, так как тоже был обижен на Аню за многое. Таня Рябушева, подошедшая вместе с Соврасовой, весело поздоровалась и предложила пойти до МХАТа пешком. Витя, не смотря на неё, согласился и, упираясь смеющимися голубыми глазами в Анины волосы, тихо проговорил: — Я так давно тебя не видел... — она не услышала его слов, но он и не рассчитывал на это. Рябушева взяла Витю под руку и, перегибаясь, взглянула в его лицо: — Как у тебя волосы подросли! Он, не отрываясь глазами от земли, ответил: — Это всё от большой любви! — Таня засмеялась, а Соврасова быстро отвернулась в сторону и никто не увидел нежного умиления, выразившегося на её лице. Большая толпа одноклассников встречала их у театра. — Я знала, что они придут вместе! — воскликнула Лена и бросилась обнимать всех троих. Во МХАТ ломились на премьеру «Вишнёвого сада». 10 «Б» никогда не отличался своей великой любовью к театру, но сейчас был особый случай — все понимали, что это был последний раз вместе.... — Жалко Тоньки нет! — громко шепнула непроницательная Рябушева в темноту душного наполненного и безмолвного зала, когда занавес уже поднимался и все взгляды были устремлены на сцену. Аня удивленно повернула лицо к ней, проглотив Танино горячее дыхание, направленное в её ухо: — Как?... — Не смогла... На этом разговор закончился. В первом отделении, угрюмый и задумчивый Гуськов, подошёл к Ане: — Да, я забыл передать тебе, у Тони какие-то проблемы в семье... она не смогла поэтому. — он ударил на последнее слово. Соврасова раздражительно посмотрела на его губы, только что сказавшие всё это: — Ты хочешь поговорить?... Проницательность была уместна, он благодарно взглянул на неё исподлобья и кивнул. — Вытащи руки из карманов. — сказала она и отошла... было странно думать, что где-то там далеко что-то делает Агнесса Миланская, направляя свой холодный взгляд в невидимые квадратики ленинградского воздуха — холодного, северного и ветреного. Спектакль закончился быстро, публика долго и напряжённо аплодировала, совсем не желая расходиться. Когда гурьба одноклассников с шумом появилась у выхода из театра, Таня, натягивая неуклюжие перчатки на руки и вглядываясь в пар холодного тёмного воздуха, сказала: — А мне Фирса жалко, я даже плакала. Кто-то усмехнулся. — Честно... Аня подошла сзади, взяв её под локоть: — Человек всю жизнь отдал тому, что служил своим хозяевам, как собака. Мудрый, несчастный, добродушный, он только и умел, что «сушить, мочить и мариновать вишню»... и что он получает в благодарность?.. Таня посмотрела на её близкий профиль удивлёнными глазами: — Анька, снова ты со своими странностями. Соврасова, не слушая её, разглядывала свои ботинки и продолжала: —... забыли, оставили, не позаботились... Танины губки опустились, в носу защипало. — Ну вот, и носик покраснел... — улыбнулась Аня, — только не надо плакать, а? Та раздражённо вскинула волосы: — А что? — Да просто... ничего особенного не случилось. — ответила Соврасова и с удивлением подумала о том, что почему-то разозлилась. — Странная ты, Аня, — с безнадёжностью повторила Рябушева и расплакалась. Они остановились и Аня взяла её за плечи: — Никто не умер, — тихо сказала она — перестань плакать. Мне это не нравиться. Последние слова из Аниных уст всегда действовали магнетически на Таню. И она перестала дрожать, закусив усиленно губку и заикаясь от только что одолевавшего её плача. Соврасова положила её голову на своё плечо и, уткнувшись лицом в волосы, почувствовала сладкий запах каких-то навязчивых и уже давно немодных духов. Она оглянулась в ту сторону, где виднелась группа ребят, и, с силой сдерживая пробивающиеся слёзы безнадёжности, отодвинула Таню от себя, с облегчением сняв с её плеч отяжелевшие руки... У входа в метро догнал их Витя. Рябушева быстро вырвалась из его рук, которыми он обхватил обеих за плечи, и побежала вперёд. — Таня, куда? — голос Соврасовой прозвучал эхом по опустошённому ярко освещённому подвалу метро. Она обернулась, сбросив с лица чёрные волосы: — Я сама... не провожайте. Они остановились: рука в руке. Он — со спадающими на маленький выпуклый лоб прядями отросшей чёлки, она — с опущенными губами и затянутыми в недлинную косичку волосами. Танина фигурка скрылась за поворотом. — Аня, она плакала? — Витя беспокойно задвигал зрачками. — Да! — её голос стал холодным и металлическим. К нему в голову пришла какая-то стихотворная цитата Вознесенского — он перебил её и быстро спросил: — Почему? Аня улыбнулась, предательски смотря на яркие струи, отбрасываемые изогнутыми фонарями: — Ей Фирса жалко. Воздух леденел. Витя сжал в руках её ладонь и остановился у трамвайных путей: — Мы последний раз виделись в том году, и я тебя запомнил такой далёкой и умной. — Умной? Витя замолчал и вспомнил, почему плакала Таня. Он не поверил, что ей действительно было жалко Фирса и испуганно взглянул на Соврасову: — Да... умной, — ответил он. — Нет, Витя. Я совсем не умная, я просто умею казаться такой. Они подошли к её парадной. — Мы позднее поговорим. Пока я не могу не о чём думать. Я слишком хочу в Ленинград. Он кивнул и поцеловал её в лоб. — Иди! — Аня толкнула его. Он развернулся и медленно пошёл прочь. Аня смотрела ему в спину и он знал это. — Иди, иди... — повторяла она шёпотом, зная, что он обернётся. И он обернулся, разозлённый, обессиленный от беспомощности, и закричал: — Ей не было жалко Фирса!.. — его голос был таким громким и чётким, казалось он стоит рядом и орёт ей на ухо. — Ей не было жалко Фирса! — повторил он — Она просто испугалась, что тоже умрёт одинокой. Он развернулся и пошёл по узкой улице, а Аня быстро зашла в парадную, поднялась по лестнице, открыла длинным ключом тяжёлую дверь и, задыхаясь, ворвалась в прихожую. Ей было страшно: перед глазами стояла картина бледно освещённой сцены театра, по середине которой — резная скамейка с длинной спинкой. А на ней лежал преданный и враз постаревший, неподвижный в каждом своём суставе, одинокий и забытый Фирс... Его мёртвое тело когда-то дрожало от холода или страха, а тонкие маленькие ноги, искривлённые в коленях, когда-то сгибались и бились коленными чашечками об пол...так он любил и предавался, как прямой угол или стул, на который никто не хотел садиться, и поэтому, каждый раз ставили к стенке... |
||
* * * Началась школа. Опять эти дрожащие зелёные окна, опять начищенный паркет, эти голоса, звук рояля, разносящийся по всему коридору третьего этажа и детские голоса, поющие песни о лучшей в мире стране Советов, опять эти зелёно-коричневые стены... и опять нужно выходить на уроках и прислоняться к ним лбом или щекой, опять — бездумно смотреть в окно и сползать по дверному косяку вниз, стоять на лестничной площадке и ждать, пока кто-нибудь не спросит о том, какой сейчас урок, сколько минут до звонка и где искать учителя физики... Аня, напрягая глаза и рассматривая свои уже не в первый раз по собственному неодолимому желанию порезанные ножом пальцы, стояла у окна в кабинете математике, просторном и полутёмном. Вторая перемена за этот день казалась ей непереживаемой, она упиралась лбом в стену и напряжённо слушала всё, что происходило сзади неё. Подошёл Рома: — Анечка, тебя ищет... — он не договорил, потому что издалека показали жестами, что уже давно никто никого не ищет. Она повернулась и поправила лямку чёрного передника. Акерманн оглядел её с ног до головы, и не отводя глаза от её рук смущённо спросил не нужно ли ей чем-нибудь помочь, и, кстати, почему её не было у Рябушевой в Новый Год. Аня тяжело вздохнула: — Я не собиралась приходить, — ответила она не свойственно себе раздражённо, и сразу же спросила — где Витя? — Не знаю, — быстро сказал тот и отошёл. На уроке математики Аня не отводила глаз от пустого Агнессиного места на второй парте, подперев левой рукой подбородок, писала на клочке бумаги уже раз десятый на латыни: finis, и обводила слово несколько раз синей мажущей пастой. Слово стояло у неё перед глазами и она то и дело их закрывала, чтобы потерять его, но всё было настолько тщетным, что Аня уже постепенно начала понимать: или нужно выйти из класса, или перестать думать о том, кого нет за второй партой. Первое было легче... На третьем уроке в коридоре тихо и холодно, как всегда зимой. Уединившись в маленькую пристройку в конце коридора, она села на низкий подоконник и сжала горящее лицо холодными пальцами. Так она сидела в полной тишине пока, наконец, в коридоре не хлопнула дверь. Аня вскинула голову и стала прислушиваться к шагам, приближающимся из коридора. «Только не сюда» — подумала она и появился Витя, в чёрной рубашке и синих брюках от школьной формы, проглаженных по стрелкам. — Что ты сегодня весь день за мной ходишь? — она схватилась тонкими пальцами за пуговицу его рубашки. Он удивился, потому что ещё не разу за сегодняшнее утро к ней не подходил: — Мне так не показалось... Аня развернула руку ладонью и показала ему пальцы: на каждом из пяти пальцев было по три или семь порезов со странной периодичностью — через один. Он быстро схватил её руку: — Что опять такое? — Забери у меня свой нож, иначе я начну кисти резать... — сказала она умоляюще. — Сегодня же заберу... Соврасова встала и взяла его лицо в руки. Витя наклонился и поцеловал её в шею... — Нет, нет, — зашептала она медленно — опять забыл...опять промахнулся, — и она инстинктивно встряхнув распущенными волосами, схватила его губы и откинувшись к стенке, обняв, притянула к себе. Витины руки крепко схватили её спину, в другом конце коридора кто-то выключил свет и они остались целоваться в полной немой темноте пасмурного зимнего дня с серым снегом, вслушиваясь в своё дыхание, разъединения губ и слияния их с новой силой, страстью и возбуждающе осознанным бесстыдством. Он почувствовал, как её пальцы сжимаются. Отяжелевшая шея, словно парализованная была наклонена и, казалось, ничего не чувствует, кроме её запотевших ладоней, нервно дрожащих на затылке, перебирающих изрезанными пальцами волосы и сжимающих кожу. Он всё осознавал, его губы бесконтрольно хватали её — гибкие и тугие, но разум чувствовал и продумывал каждый вздох, каждое соприкосновение дёсен и каждую боль, остававшуюся на мокрых искусанных губах. Витя долго прижимал руки к её груди и, почти не чувствуя своих ладоней, послушно отодвинул лицо, когда она взяла его в руки и вытянула их на расстояние. Гуськов увидел Анины красные глаза и напряжённые, сближающиеся у переносицы зрачки, их лица были на расстоянии прикосновения губ, когда она слабо зашептала: — Что ты делаешь?... Что с тобой, ты никогда раньше так... — Аня не договорила, не подобрала глагола, осеклась. — Что? — Давай, как раньше... как два года назад, Витя. Она не видела, что он ничего не понимает и умоляюще смотрела в его обессиленное выражение глаз. — Аня... — сказал он в полголоса и увидел, как она медленно перевела глаза с его лица вперёд, и её зрачки расширились и застыли: за его спиной, боязливо выглядывая из-за угла, чуть согнувшись, стоял маленький мальчик, взволнованно крутя пухлыми пальцами октябрятский значок, приколотый к карману пиджака, и с патетическим интересом впивался огромными глазёнками туда, где сплетались их ноги. Аня быстро придвинулась всем телом к стене и, покраснев ещё больше, уткнулась в Витино плечо. Мальчик вышел из-за угла и несмело приблизился: — А вы учитель? — спросил он тихо, нагло смотря хитрыми голубыми, похожими на Витины, глазёнками-бусинками. Лицо Гуськова приняло выражение самое серьёзное, с каким отдают рапорт, и ещё больше сжав на Аниной спине руки он низким голосом ответил: — Нет, я — директор. Аня тихо засмеялась, а ребёнок улыбнулся беззубым ртом: — А она — комсомолка! — он ткнул указательным пальцем на Аню. Витя быстро схватил его за руку и сжал её в кулаке, смеясь не менее настырными, чем у самого мальчишки, глазами, он нахмурился: — Шпингалет... а ну марш на урок! Тот испуганно отскочил и весело побежал прочь... через секунду прозвенел звонок с урока. Аня откинулась назад: — Иди, — сказала она. Он медленно высвободился и всё ещё не отпуская левой руки, той самой, которая была изрезана, спросил: — Это теперь модно — резать пальцы? — Я их не резала... я их подставляла. — Резать? — Целовать... — она ударила его руками в грудь и, оттолкнув от себя, не оборачиваясь, выбежала из пристройки. Он посмотрел на свои руки, которые держались за то место, куда она ударила, и понял... он понял то, чего не понимал ещё секунду назад: она разлюбила его навсегда и только что осознала это. |
||
* * * На пятом уроке Ани уже не было. Витя никого не спрашивал, почему она ушла. Два места в наполненном кабинете литературы пустовали. Никто не замечал того, что между отсутствием двух учениц была какая-то связь. Два места оставались в классе незанятыми: на второй парте правой колонки, и второй парте у окна, это были места Агнессы Миланской и Соврасовой Ани. Держа в руке Анин весенний шарф зелёного цвета с чёрными прожилками, накручивая его на ладони, Витя стоял у окна и бесчувственно смотрел в пол. Подошёл Рома: — Что, ушла? — спросил он. Витя поднял медленно голову и взглянул на Ромино блестящее добродушное лицо. Он подумал, что нет ни одного человека в классе, стремящегося так искренне и горячо ему помочь, как Акерманн, он впервые задумался о том, что как бы он не хотел этого, настоящего близкого друга у него нет... он не знал причины по которой был так одинок, но теперь очень прямо видел, что больше, чем Роме, он всё равно никому уже не расскажет. — Да. — медленно проговорил он, всё ещё думая, продолжать ли разговор. — Ну так, Витюш, придёт. — сказал Акерманн, по-матерински, положив руку ему на плечо. Его интонация в таких моментах всегда напоминал акцент, с которым говорят в Одессе. Рома действительно жил в Одессе долгое время и, поэтому подобные интонации появлялись у него неожиданно для самого себя и он даже их не замечал. Оба замолчали. — Скоро закончится школа и ты будешь смеяться над всем тем, что болело в сердце. Витя, это всего лишь школьная любовь, и больше ничего... неужели ты не понимаешь, что любить одноклассника — невозможно! Она не умеет этого делать, как все девочки. Куда им до нас, они нас видят каждый день в школе и ты думаешь, что после этого она ещё согласиться связать с тобой свою оставшуюся долгую жизнь? — Акерманн говорил всё это с нескрываемым сожалением, в нём звучало то лёгкое отношение к жизни человека, которого никто не любит, никто нигде не ждёт и ни о чём не спрашивает. Вот так он привык воспринимать окружающий мир — поверхностным, детским и непостоянным в каждом своём календарном дне. — Ты всё правильно говоришь, — с грустью ответил Витя, — только зря ты это говоришь. — Почему? — Есть вещи, которые знают все..., но никто никогда не говорит об этом вслух. Это — одна из тех вещей. |
||
* * * Тоня напряжённо смотрела на Анину голову, опущенную устало на грудь. Она стояла в дверях своей квартиры, а точнее квартиры её отца, где она жила уже две недели. На пороге было холодно, но впустить Аню было невозможно по непонятным обеим девочкам причинам. Картошёва постоянно извинялась и говорила, что всё из-за отца, глупо оправдываясь и с чувством сожалея, но Соврасова её не слушала, она стояла потупив взгляд в грязный половик и крутила оторванную только что со всей силы пуговицу своего пальто. — Ну, так что, Анька, ты думаешь это будет вечно продолжаться, это же время такое, всё пройдет... — Да нет, нет, Тоня, я не могу так жить, я действительно не могу смотреть на всех. — Не понимаю. — И я тоже не понимаю, — она наклонила голову набок и посмотрела на ту смеющимися глазами, — все надоели, понимаешь? — прошептала она — Просто все, без исключения. Тоня откинулась бедром на косяк: — Ну, исключения всегда есть. — Да они есть. — Ну и всё, выкинь тогда эту мысль из головы. Ишь, чего вздумала, пять месяцев до окончания школы осталось, она хочет переходить. Аня кивнула: — Почти решено... — Да, подожди ты, пока твоя Миланская вернётся, раз даже Витя тебя не удерживает. — Да причём тут Витя? Тоня помолчала и, посмотрев исподлобья Соврасовой в глаза, почему то очень тихо, стыдливо спросила: — Ну, ты его разлюбила, что ли? — Разлюбила? — переспросила Аня. Тоня отвечать не собиралась, было ясно, что вопрос задан в пустоту. Был слышен гул холодных окон светлой и чистой парадной. На широкой лестничной площадке, кроме Тониной было ещё три двери, большие и добротные с кожаной обивкой и серьёзными замками. Аня оглядела их по очереди и вздохнула: — Разлюбить — это тоже чувство... и ты знаешь, не менее серьёзное, чем сама любовь. Это чувство которым болеют, почти так же неодолимо, как любовью, только не так сладко... — она замолчала, — а я не разлюбляла, просто ушла и всё... моя любовь пропала без боли, радости, печали, отчаяния, она просто исчезла — легко, быстро, безболезненно и бесследно... — Ты что серьёзно всё это сказала? — спросила Тоня тяжело дыша. Аня закрыла глаза и откинулась на чистую светло-зелёную стену. Она ничего не ответила, только, сжав губы, часто закивала головой, как бы отгоняя боль или пытаясь быстро всё ещё раз понять и утвердить. Наступило молчание. — Аня, зачем ты придумываешь себе страдания? — Я их не придумываю... я их страдаю... — А зачем ты страдаешь? — Потому что это единственное, что делает меня красивой. — Страдание??? — Да, Тоня, а ты не знала, что в страдании заключается невероятная красота и что она делает человека прекрасным?... — Я теперь это понимаю, — ответила та, с несвойственной себе нежностью, смотря на Аню и восхищённо переводя взгляд с её глаз на лоб и волосы. — Когда теперь? — Когда смотрю на тебя... — А что... — Аня хотела спросить, но Тоня перебила её. — Да — ответила она, — я всё вижу... и не только я. Соврасова смущённо улыбнулась, за что сразу же на себя разозлилась и, вытащив руки из карманов, хотела обнять Тоню, но та быстрым движением схватила её ладони, повисшие в воздухе: — Что это? — спросила она, испуганно смотря на Анину левую руку, где были изрезаны пальцы. — Это тоже самое. Аня осторожно вырвала кисть. — Что значит — тоже самое? — Я очень люблю свои руки. Тоня недоверчиво посмотрела на Соврасову: — Поэтому ты причиняешь им боль. — Ну они же должны страдать. Они же должны быть не просто пустыми, холодными руками, а чувствующими, страдающими, переживающими и, главное выражающими это страдание. — Зачем, Аня? — Затем, что я хочу смотреть на них и видеть, что моя душа не бесследно терзается, что всё это терпит не только моё сердце, но и руки... должна же моя душевная боль иметь физическое основание, должна же я самоотрешаться как-то, в чём-то по-настоящему страдать, оставлять от своей внутренней боли следы: осязаемые, болезненные, страшные... — она замолчала, — это даже делает меня более неуязвимой. Тоня пристально посмотрела на её руки: — Дура! — звонко сказала она. Соврасова подняла тёмно-зелёные глаза и вопрошающе впилась ими в Тонино бледное лицо. — Дура! — повторила та. Аня медленно развернулась и стала спускаться по широкой лестнице, держа руки в карманах и смотря в ступеньки. — Что же ты с собой делаешь??? — закричала Картошёва, сжимая локти. Аня развернулась и тихо сказала: — Это не я. — А кто? — Тонин низкий голос сорвался на хрип. — Что ты знаешь о том, кому я принадлежу? — Соврасова быстро принялась спускаться, держась порезанной рукой о перила. Тоня стояла в дверях, пока на последнем этаже не хлопнула входная дверь. Она медленно взялась за ручку своей двери и, закрывая её, прошептала на выдохе: — Очухается... только бы поздно не было. — её последние слова заглушил мощный хлопок замка, дверь закрылась: стало тихо и тепло. |
||
ГЛАВА 11 Абсолютно нагая, под тяжёлым малиновым одеялом в полутемной комнате лежала Аня Соврасова, уткнувшись полностью лицом в подушку и дыша накрахмаленной наволочкой. Внезапно по её содрогающимся заплечьям пробежали чьи-то холодные пальцы с мягкими подушечками. — Анюта, к тебе пришли! — услышала она мамин голос и, подняв голову с подушки, но не повернув лица в мамину сторону, она тихо кивнула. Кто-то так поздно, подумала она и ощутила страх того, что сейчас кто-то войдёт в эту комнату, и окажется не тем кого ждёт она... и опять страдание захлестнёт в душу, обжигая сердце. И зачем только нужно было резать пальцы? В комнату тихими шагами вошёл Витя. — Я так и думала, что ты всё-таки придёшь. — с улыбкой сказала Аня не поворачивая головы. Она конечно не знала, кто вошёл в комнату, потому что шаги были слишком бесшумны, а поэтому настраивала себя на самое худшее, что можно было себе представить. Витя безмолвно сел на стул, стоявший у конца её кровати и положил ладонь на её голени, плотно завёрнутые в одеяло. Всё ещё не поворачиваясь, Аня сказала: — Господи, как же я скучаю!!! — ей было безразлично, кто там сидит. Чувство тоски так переполняло её, что сдержаться не было никакой надежды. — Я тоже, — ответил он. Аня уронила лоб: — И ты тоже... — почти утвердила она и подумала, что не ошиблась, когда настраивала себя на худшее. Витя поднялся, прошёл вдоль кровати и предстал перед Аней во весь рост, держа руки в карманах. Широкие хорошо проглаженные штаны на чёрных тонких подтяжках смотрелись почти нераздельно с чёрной однотонной «бобочкой» на длинном рукаве. Он наклонился: — Два дня я не видел тебя в школе, 48 часов я не слышал твой голос... я не мог не прийти. — Виктор... — Аня села, опираясь спиной на стену и плотно держа на груди одеяло, оставляя только шею и плечи незакрытыми. Он внимательно посмотрел на неё при этом обращении, потому что редко слышал от неё своё имя, произнесённое полностью. — Я завтра приду, — продолжила Соврасова, и Витя понял, что она сказала совсем не то, что хотела. — Ты в школу придёшь? — Нет, ты правильно меня понял, я к тебе приду. И хорошо, говорить было больше не о чем, последние Анины слова только что выразили всю неуместность Витиного визита. «Поговорим завтра» — было сказано, и не слова больше, и оправданья — прочь. В конце концов, никто никому уже не нужен, подумала Аня. — Я пошёл, — тихо сказал он и ничего не ответил Аниной маме, которая заглянув в комнату, спросила, принести ли чай. Только Соврасова медленно покачала головой и, смотря Вите в спину, сказала: — Нет, мамочка, не надо... не надо никакого чая. Долгий вечер растягивался безжалостно и ненавистно. «Я думала, что умру сегодня » — написала Аня на клочке бумаги, лежавшем на столе и с этой навязчивой мыслью, которую не отгоняла, предалась сну, такому крепкому, какой бывает только зимой. |
||
* * * Акерманн и Соврасова встретились у Витиной двери. Они редко замечали друг друга в школе, но всегда встречались взглядами в таких неожиданных ситуациях, что, казалось, долго не виделись. — Ты? — весело спросила Аня. — Я! — весело и многозначительно ответил он. Аня потянулась, чтобы позвонить в дверь, но Рома остановил её: — Подожди. — Что? — Я... не буду вам мешать? — Ну раз уж пришли вместе, так вместе и пройдём?! — Ну а... я могу уйти, — он подался назад, всем своим видом показывая подобострастную готовность как-то помочь. Аня деловито притянула его за рукав коричневой дублёнки: — Успокойся, Рома, ты не помешаешь нам. Она быстро позвонила в дверь и Витя быстро её открыл, так, как будто всё это время он стоял за ней и ждал, пока кто-нибудь позвонит. Он не ожидал увидеть их вдвоём и смутился. Аня быстро продвинула Рому вперёд и зашла за ним. — Витька, я не на долго... — быстро сказал Акерманн. — Я тут принёс тебе начинающих поэтов, помнишь ты просил? — Рома вытащил из внутреннего кармана чего-то маленькую, напечатанную на пишущей машинке книжечку с кривой надписью и скачущими на заголовке буквами «Молодые просто поэты». Отец Ромы Акерманна состоял членом Союза писателей и считалось, что имел достаточно стабильный успех среди определённых кругов. В связи с этим, Рома всегда знал какую-то писательскую ерунду, в которую могли быть посвящены лишь избранные. Мода на «просто молодых» и, соответствующее любопытство, шли от него. Он рад был приносить Гуськову разные новые издания последних порывов творчества «молодых». Рома догадывался о Витькиных попытках писания и поэтизирования, но тот не признавался в своих глубоко зарытых от чужих глаз привязанностях. Следовательно — это было тайной. Подобные книжечки всегда радовали Витю, как ребёнка, но теперь даже новое издание «Молодых» не радовало его. Он холодно взял книжку из рук: — Я помню. Спасибо. Акерманн начал переступать с ноги на ногу, смотря исподлобья на Аню. — Ну я пошёл, — сказал он. Соврасова, которая к этому времени уже сняла верхнюю одежду и обувь, стояла, обхватив себя за локти и поджав пальцы ног в тонких неподходящих по сезону чулках. — Да, идти, — подтолкнул его Витя. Когда дверь за Ромой захлопнулась, Аня сказала: — Я не думала, что ты такой неблагодарный. Ладно, подумал Витя, тебе хочется меня в чём-то обвинить, я не буду тебе мешать. — Проходи, — сказал он, показав на комнату, и удалился в коридорный проход. За два с лишним года дружбы и любви Ани и Вити, Соврасова была у него дома всего два раза — на его днях рожденья. Теперь она с интересом разглядывала его маленькую, аккуратную комнату, наполненную доверху книгами в новых однообразных переплётах, в углу у окна стояло пианино тоже новое, блестящее и вкусно пахнущее лаком, у пианино — письменный стол, а на длинную светлую стенку опирались два кресла. Это был Витин кабинет, спал он в другой комнате, всего их в квартире было четыре. — Я знаю, ты будешь зелёный чай? — спросил он, входя медленно с чайником и кружкой. Она быстро оторвала взгляд от висевшей на стене фотографии его родителей и перевела его на только что вошедшего Гуськова, который стоял перед ней в чёрных широких штанах на подтяжках и выглаженной белой рубашке с золотыми пуговицами, какие пришивались на пионерскую форму. — Ты что такой нарядный? — спросила она хитро, незаметно для себя трогая пальцем металлическую рамку фотографии. Ну, сейчас ещё скажешь мне, что я, небось в школу собрался, да не успел уйти, потому что ты пришла, подумал Витя и улыбнулся: — Ты сказала, что придёшь, я же не буду... Она перебила его: — Я поняла. Нет, спасибо, зелёный чай на этот раз я пить не хочу. — А что так? — Зелёный чай мы не пьём... его пьём не мы. А мы пьём чёрный — с молоком. Он вспомнил, что, и правда, Аня всех поила чёрным чаем с кипячёным молоком, иногда она угощала жасмином, но зелёного чая никогда в её доме не было. Удивившись появлению этой традиции, он не преминул о ней спросить. — Да так, научили, — ответила Аня холодно и отошла к окну. Через несколько минут Витя принёс ей чёрный чай с кипячёным молоком и, сев в кресло у окна произнёс: — А Тони тоже нет в школе третий день. — Это никак не связано с моим отсутствием. Наступила тишина, Аня громко поставила кружку на стол и им обоим вдруг стало невыносимо жарко, неудобно друг с другом и захотелось забыться. — Ну что? — тихо спросил он. Предполагалось, что с минуты на минуту Аня начнёт говорить о том, что всё между ними — невозможно и нужно, пока не поздно, расстаться, но ничего подобного не последовало, кроме тяжёлого вздоха. — Я не ухожу от тебя, — вдруг сказала она — я тебя не разлюбила, прошу меня понять... — Аня замолчала, ей показалось, что она врёт, а если ещё нет, то сейчас это сделает. — Скажи что-нибудь, — тихо прошептал он. Она закачала головой. — Нечего? — Просто я знаю, что не имею права. — Почему? Она вдруг оживилась: — Ведь это я тебя первая полюбила, да? — Как это, первая? — Ну, тогда, после лета, когда ты пришёл в наш класс, я первая тебя заметила и влюбилась, а потом уже ты... Он остановил её: — А какая разница? — Просто, теперь я тебе обязана? — Почему? — Приручила. — Ну и что теперь, я не смогу вырваться? — Я вижу, что нет... — она покосилась на фотографию его родителей и встрепенулась — но и не надо... не надо никуда вырываться, просто забудь, что я тебя держу, что ты — мой, и всё. Он, ничего не понимая, смотрел ей в глаза, пытаясь читать в них недосказанное. — Но, я тебя не разлюбила, ты понял, не раз — лю — би — ла! Витя оскорбился: — А я сказал тебе это? — Ну я же знаю. Крутя между пальцев маленький свёрнутый вчетверо клочок клетчатой бумажки, Витя спросил: — Что вдруг с тобой случилось? Она вскинула брови, её голос стал пронзительным: — А ты не знаешь? — Догадываюсь, но не скажу. — Твоя версия. — Я же ответил, что не скажу. — Твоя версия, — настойчиво сказала она и перевела взгляд с его лица на смуглые руки, вертевшие бумажку. Витя помолчал: — С того дня, как Агнесса уехала... Аня перебила его, со злостью в голосе почти выкрикнула: — Не нужно ни слова об Агнессе, она уехала — всё. Она больше сюда не приедет, у тебя есть другие версии? Ошеломлённый таким поворотом и смущенный тем, что так неожиданно и грубо был прерван, Витя оскорблёно посмотрел на Соврасову: — Не думаю, что она уехала насовсем. — А ты об этом и не думай... другие версии, Витя! — она вопрошающе посмотрела на него, он молчал. Он стал теперь совсем другой, не такой, как ещё в начале этого учебного года. Только, неподходящий под вороные брови и волосы цвет лица, остался прежним, а глаза всё ещё блестели, как два осколка зеркала с отражением в них неба. Теперь густые волосы не прилегали к ровной голове, а свисали неровными прядями на лоб, за мочками ушей были видны маленькие отросточки непослушных, когда-то плотно прилегавших к затылку волос. Он стал похож на ворона и его можно было назвать почти красивым. — Других версий нет и быть не может. — Я теперь всё поняла, Витя, — тихо сказала она, переходя на шёпот, — хорошо, что других версий нет. Я не буду с тобой об этом разговаривать, вообще не буду... только не с тобой...понял меня? Он кивнул головой: всё правильно, об их отношениях она поговорит с кем-нибудь другим, только не с ним... на самом деле это была нарочная, заводящая и злящая его ошибочная мысль, которую он специально прокручивал в голове, чтобы было хуже, чем есть в сущности, Витя знал, что Аня никогда ни с кем об их отношениях не говорила, как никогда не говорила и с ним о своих отношениях с кем-то... она всё держала в себе, о боли, разочарованиях и тайных страстях её знали только слёзы, ночная тишина, дышавшая в ней и изрезанные пальцы. Он встал и прильнул к стене: — Хорошо, хорошо, хорошо, всё что хочешь... — Всё что хочешь?... — улыбнулась она. Витя кивнул: — Что тебе подарить на день рожденья? — До октября ещё долго ждать... — А я поэтому и спрашиваю, чтобы ты сказала, потом забыла, а когда я подарю, удивилась бы! Аня засмеялась: — Я хочу что-нибудь живое... но собаку мне не разрешат держать. Он смутился: — Давай я подарю тебе птичку? — Нет, от тебя мне ничего такого не нужно... я не хочу приручать существо, подаренное тобой, а потом, если оно умрёт вдруг, я не переживу... — она быстро забарабанила рукой по стене — нет, нет, нет, Витя — даже не думай. — Хорошо, я могу подарить тебе не животное, а просто что-нибудь с ними связанное. Она вопрошающе посмотрела на него. — Ну, например, аквариум. — Аквариум? Он кивнул: — Для рыбок. — Нет, — Соврасова стала серьёзной, прядь тёмных волос упала ей на лицо, закрывая полностью одну его половину, — не люблю стекло, оно бьётся. Мне достаточно того, что человеческие отношения имеют свойство разбиваться... Витя одобрительно оглядел её. Как хорошо она сказала, как поздно он сам это понял. — Аня, — тихо сказал он, — я подарю тебе ланцет, только не нужно больше резать пальцы... отдай мне нож? — Хорошо, спасибо, надеюсь, что к этому времени, мне уже никакой ланцет не понадобится. Он не понял, что она имела в виду, но не стал спрашивать, а, успокоившись, положил руку ей на плечо и отвернулся. Аня медленно откинулась на книжные полки, расстилавшиеся от пола до потолка и закрыла глаза: — Витя, — тихо позвала она. Он сел на стул, стоящий рядом и положил лоб на её кисть, лежавшую на столе. Её нежный голос с поминутными предыханьями прорвал навязчивую тишину: — Я раньше никогда не думала об этом, а за последнее время меня этот вопрос беспокоит так, что порой невозможно заснуть... Он поднял голову и внимательно вслушивался в её голос. Аня посмотрела на его лоб и прикоснулась мысленно к нему рукой. — Скажи мне... только ты наверное не знаешь... — тяжёлый вздох — и всё же... почему мы так безвозмездны? Теперь я тоже боюсь этого. — Потому что каждый живёт исключительно для себя, — ответил он не думая. Ане не понравился этот ответ, она сжала скулы и выпрямилась: — Нет, нет, Витя. Он хотел что-то сказать, но она перебила: — Ты говоришь — для себя! А мне страшно, посмотри на меня, я живу для других, я никогда не думаю что будет со мной завтра, я боюсь, что не успею помочь кому-то... понимаешь?... Я живу для людей и ежесекундно думаю о них, и тем не менее, я ещё более отвергнута, чем те, кто и не думают ни о чём, кроме собственной выгоды. — Ты просто слишком серьёзное значение предаёшь окружающим тебя людям, так нельзя, ты ничего тогда не получишь, или тебе и того будет мало. — А мне иногда страшно, что ни одного стоящего человека здесь нет. — Где здесь? — В мире, или в моей жизни... В дверь позвонили и Витя быстро отпрянул, чтоб открыть. Скоро послышался весёлый голос Акерманна. Аня вышла смотря на него настороженным изучающим взглядом смеющихся глаз. — Ты никак не можешь нас забыть, — сказал Витя. — И не хочу! — отрезал он. — Ромашка, оставайся, — тихо и ласково предложила Соврасова. Витя удивлённо посмотрел на неё, но ничего не сказал, а только выхватил из рук растерявшегося Ромашки его дублёнку и повесил на самый высокий и дальний крючок, чтобы тот вдруг не передумал. Аня сидела за столом, она держала горячий лоб, обжигая его своими слишком холодными ладонями, Рома сидел на кресле, Витя — за пианино. — С чего ты это взял? — недоверчиво спросил Гуськов, обращаясь к Акерманну. — Ну она сама сказала, не мне правда. — А кому? — монотонно спросила Аня. — Ну, в общем, ребят, не важно! Главное — сам факт, что её выгоняет собственный отец из дому. — Ну этого не может быть, — в оцепенении проговорила Аня — у неё родители развелись, она формально живёт с отцом. Рома хлопнул с размаху ладонями о колени: — Значит поссорилась. — И с кем теперь Тоня будет жить? — спросил Витя. — Она сказала, что переезжает к этому своему... ну новому приятелю. — К Терентьеву? — тихо спросила Аня. — Да. — Почему к нему? — Потому что у него есть комната какая-то и вообще она так решила. Наступило молчание. — Я не верю тебе, — сказала Соврасова, — ты что-то перепутал, я знаю Тоню, она никогда бы этого не сделала. Уйти от отца? — она махнула рукой, как — бы отметая что-то в воздухе — Да никогда, к сожалению, Тоня этого не сделает, он слишком ей нужен... чтобы променять его на какую-то сумасбродную внеочередную пассию. — На мотоцикле, — с завистью прибавил Рома. — На мотоцикле... — со всей важностью подтвердила Аня, показывая тем самым, что мотоцикл здесь не имеет никакого значения... Ей стало жалко Картошёву — неужели она никогда не узнает, что говорят о ней одноклассники, в чьём уважении она так бессменно нуждается...? |
||
* * * Положив белокурую растрёпанную голову на руки, Агнесса всем корпусом опустилась на лакированный стол в полутёмной холодной комнате своей ленинградской квартиры. Тёмный пробор на голове ровно разделял её на две половины, волосы — распущенные и мокрые едва касались острых плеч, окутанных колючим чёрным одеялом. В комнате было пусто, безнадёжная, так привычная этим стенам тишина стояла гулом, как в могиле, пахло старым картоном, книгами и лакированным полом. Агнесса ровно дышала, уткнувшись неживыми глазами в свои руки, когда вдруг, как школьный звонок, оглушительно и нежданно зазвонил телефон, стоявший прямо у её уха. Не поднимая головы, она сняла тяжёлую железную трубку и услышала совсем рядом, пронзительно и отчётливо звучащий издалека низкий голос отца: — Что, Дребезовы заходят? — Иногда... — Как иногда, я же просил каждый день?! — У них своя жизнь, у меня — своя... — Ну родственники. — Тебе они не родственники — ударила Миланская. — На Богословском была? Тяжёлое молчание, вздох: — Что-нибудь ещё хочешь спросить? — Дочка... — наступила тишина и — треск в трубке. Агнесса привстала на локти, и смотря на своё отражение в прозрачном столе, поморщилась. — В общем, тебе что-нибудь нужно? — Ничего мне не нужно, приеду в Понедельник... — До свид... — послышалось в трубке, когда Агнесса её бросила на курок и, схватив руками голову, стала судорожно вспоминать номер телефона. Она набрала по памяти номер на 272 и в нерешительности забарабанила пальцами по чёрному стройному корпусу телефона. — Онкологическая больница, приёмное отделение, вас слушаем, — сказал тихий умирающий женский голос на другом конце провода. — Добрый день, мне старшую медсестру хирургического отделения, — сказала быстро Агнесса. — Она только что ушла, девушка, у неё же ночная смена закончилась. — Спасибо, — отчеканила Миланская и громко нажала на гудок. Через полчаса позвонили в дверь. — Я помню, что ты просила, — сказала на входе невысокая, смуглая девушка. Агнесса улыбнулась: — Это очень приятно. Маша Дребезова приходилась Миланской далёкой родственницей, так как по линии матери у Агнессы родных почти не было, эта самая Маша — троюродная сестра какой-то двоюродной тёти была самым близким человеком, который остался от мамы. Двадцатитрёхлетняя молодая медсестра, немного причудливая, её ничего не интересовало и не удивляло, попросить её можно было о чём угодно, если только это не ставило под угрозу её личные интересы, Маша с охотой помогала и содействовала. У родственницы было маленькое симпатичное личико с желтоватым оттенком. Миланскую Маша обожала — в прямом смысле этого слова: обожествляла, приклонялась, трепетала и не уставала повторять: «Ты такая особенная, такая непонятная, и зачем тебе всё это?». Агнесса же ту любила за неясность мысли и чёткость выполнения заданий. — Ну, что, чудная, опять, за своё? — ласково смотря на Агнессу, улыбнулась Дребезова и с шумом принялась раскладывать на марлечке шприц, спирт и рулон ваты. Миланская сидела напротив, зажав руки между колен: — Как сильно у тебя спирт пахнет, — сказала она. — Не говори, только у меня так, — она засмеялась в полной тишине, скорчив маленький носик и обнажив ровные зубы. — Только знаешь, если кто-нибудь узнает, что я взяла с собой шприцы, это же... — она усиленно протирала иглу спиртом, — подсудное дело... Агнесса вскинула брови и с усмешкой посмотрела на ту сквозь пелену безразличных и дерзких глаз. — Да нет, нет, я вру конечно, — оживилась Маша, — всё-таки не понимаю этого всего... — она говорила для себя, говорила постоянно и практически безостановочно, её никто не слушал, но она и не просила внимания. Агнесса положила бледную руку на стол, закатав большие рукава чёрной, выцветшей рубашки. Маша заботливо обмотала вокруг мышцы жгут и тихо попросила: — Сжимай кулак, — её голос был мягким с чуть свистящими «с» и «ш», и долго слушая его, можно было с лёгкостью заснуть. Миланская откинулась на спинку стула, следя в полном онемении за каждым ловким Машиным жестом. Та быстро взяла прозрачный тяжёлый шприц с длинной иглой и не глядя на Агнессу, спросила: — Четыре кубика будем? — Да... В раковину с шумом упала капля воды, загудели трубы, где-то у Дворца Пионеров завыла сирена какой-то служебной машины, Агнессины окна, выходившие на Фонтанку, затряслись от лёгкого ветра, Маша протёрла спиртовой ватой иглу, вытащила из кармана оранжевый пузырёк с надписью «Нашатырный спирт» и быстро вставила иглу в вену, которая уже вздулась и напряглась — всё делалось с полнейшим спокойствием и беспристрастной серьёзностью на лице. Агнесса вскинула глаза на Машину макушку, а та склонилась над вытянутой рукой Миланской и наблюдала, как, брызнувшая из вены в шприц бордовая кровь густым потоком наполняет стеклянный корпус. Машины руки не дрогнули, кровь начала доставать до метки 4 кубика, Агнесса медленно легла корпусом на белый стол, всё ещё пытаясь себя контролировать и через несколько секунд, когда Маша уверенно и быстро вынула острое жало из вены и обвязала её ватой, Миланская быстро рванула всем телом в сторону и в полнейшей потери сознания рухнула, как мёртвая, на пол. Несколько минут спустя, сознание ударило ей в виски; Маша держала Агнессину голову на ладони, а второй рукой, водила у её носа ватой с нашатырным спиртом, касаясь кончиками холодных пальцев её верхней губы. Миланская всё ещё лежала на кухонном полу, с перевязанной правой рукой, закатанными рукавами и в чёрном шерстяном одеяле. Маша нежно посмотрела на неё сверху и села на пол рядом: — И зачем тебе это?... — Просто хочу знать, что могу сделать с собой всё, что вздумается... — Да? — Да. Это — совсем другое ощущение себя... — А зачем оно тебе? — Я же должна знать, что чувствует человек, когда теряет кровь, это почти на шаг к смерти. — А тебе интересна смерть? — Я к ней безразлична... — Агнесса, это приятно? Она слабо улыбнулась: — Да, очень, наверное, похоже на то, когда алкоголь даёт в голову, только это ещё в десять раз сильнее... Это, как, экстаз! — ЧТО? —....Экстаз, — Миланская слабо зашевелила губами и закрыла глаза... — Это ж надо... — Маша в оцепенении посмотрела в пол и ей захотелось выпить чего-нибудь бодрящего, сильнодействующего... Она вспомнила, что Агнесса пользуется снотворным... «Интересно, это тоже — шаг к смерти?» — подумала она и провелась рукой по горящему лбу Миланской, которая смотрела на неё своими полузакрытыми смеющимися глазами, сверкающими, как мокрое стекло с отражением в нём черносливового блеска. |
||
ГЛАВА 12 Людмила Николаевна медленно поглаживала руки и лёгкая улыбка счастья скользила по её уставшему и удивленному лицу. — Мама, я хочу только на один день, тебя же не будет сегодня после двух? — А папа? — Ммм... — Тоня опустила глаза и нетерпеливо поправила ногой половик. — Вы поссорились? — испуганно вскричала та. — Мама, нет, — Картошёва раздражённо хлопнула руками о стенку, на которую опиралась спиной. — А что, что? — Ты же знаешь, папа занятой человек, и потом, он не любит, когда в дом приводят... — Ну, а много вас будет? — Да, нет, трое нас... Людмила Николаевна замолчал, в раздумье смотря на свои тапочки. — Проходи, что это я тебя на пороге то держу? — вдруг оживилась она. — Нет, нет, мам, нет, у меня времени мало... — заторопилась Тоня. — Ну, Антонина, я не знаю, что тебе сказать, я не знаю этих людей, кто они? — Студенты... — Я могу доверять им? — Ну а почему нет? Как мне... — нахально выпалила Тоня, — А ты, мам, когда вернёшься? — прибавила она, сузив большие глаза. — Я вернусь утром, до двенадцати... — она помолчала, — а ты мне скажи, папа не против? — Да, что там папа? — Ну как, ты же с ним живёшь — он за тебя волнуется. — Нет, он не против. Мама беспомощно посмотрела на Тоню и, приложив руку к лицу, закрыла глаза: — Ладно, что ж с тобой сделать, приходите. — Мама, спасибо, — улыбнулась Тоня. Та кивнула: — После двух, Тоня, когда меня уже не будет, — крикнула она вниз, быстро спускавшейся дочери, совсем как в детстве перескакивающей через две ступени без опоры на тонкие перила... — Да, да! — нетерпеливо ответила та и хлопнула входной дверью. — Ах, Тонечка, Тоня... — тихо прошептала Людмила Николаевна, так и не успев побыть счастливой в короткой встрече с дочерью. |
||
* * * Совершенно рыжий молодой человек с нелепо острыми чертами лица стоял у входа в гостиную чисто убранной и светлой квартиры Тониной мамы. — Паш, заходи в комнату, — смущённо пригласила Картошёва, сжимая лежащую на блестящем столе тряпичную салфетку. Он прошёл и, выложив на стол сигареты, удалился в узкий тёмный коридочик. Аня, сидевшая к нему спиной, не повернула головы, а только исподлобья взглянув на Тоню, спросила: — А друг его кто? — Ой, забыла как его зовут... ну ты помнишь, он был у нас пионервожатым раньше? Аня удивлённо улыбнулась: — Не помню. — Я тоже не помню, это он так сказал... Картошёва налила себе кофе с цикорием, а Ане чай: — Ну что, мне делать, Аня, скажи? — она беспомощно свесила длинные руки, стуча пальцами о стул. — Ты можешь понять, что невозможно думать только о себе? — Ну и что... да, я думаю о себе, меня так научили! В соседней комнате заиграла музыка, затем послышался скрежет иглы о пластинку, чей-то хриплый голос и весёлый мальчишеский смех. Тоня усмехнулась. — Это чей голос был? — Тот который сказал: руки убери? Аня кивнула. — Пашин. — А-а, — многозначительно протянула Соврасова, — это правда, что ты собираешься жить с ним? — Ну, у него есть своя комната отдельная от родителей... — Тоня остановилась. Аня взяла пачку сигарет, лежавшую на столе и прочитала надпись. — Настоящие американские, представляешь? — восхищённо прокомментировала Тоня, — только у него такие... Аня взглянула на неё, откинувшись на спинку стула и глаза Картошёвой, только что горевшие светом самообманчивого восхищения, сразу же потухли. — Ну, что, Картошёва, — почти с улыбкой, но с какой то странной, совсем не радостной, а даже скорее ненавидящей, произнесла Аня, — тебе мало того, что ты собственной мамой пренебрегла ради своих стремлений и интересов, что в этом мальчике есть такое, что ты так пристально на него смотришь? Тоня оскорбилась: — Перестань, Соврасова. Тут в дверях появился сам Паша Терентьев: — Можно в комнате покурить? — спросил он простуженным голосом. — Нет, на лестнице, — холодно ответила Тоня. Аня обернулась на него. Перед ней стоял высокий светлоголовый юноша в синих без единой царапины и прожилки джинсах и голубой «бобочке» с рисунком не по делу — маленьким корабликом со штурвалом, он стоял, упираясь длинными руками в дверные косяки, поставив одну ступню на другую. Паша посмотрел на Аню изучающими, суженными глазами и кивнул: — Очень приятно. Соврасова развернулась в пол-оборота, поправляя на бёдрах узкое чёрно-сиренивое платье: — Комсомольский привет, — сказала она через улыбку, скользя по нему взглядом и не смотря в лицо. Паша вытащил из пачки, лежавшей на столе две сигареты и поспешно, несколько сконфуженно вышел. — Ох и гордец же, — сказала Аня, скрещивая на груди руки и смотря на свои белоснежные манжеты. Тоня пристыжено помолчала: — Но, ты знаешь, он — лучше всех. — Я понимаю... — Ну, у него столько уже всяких грамот, ты не представляешь, он — самый умный там у них на факультете, ну, потом, папаша у него конечно — что надо! Аня прервала её: — А что тебе надо? — Да мне то...? Ничего... просто, знаешь, надёжнее... Он такой взрослый, уверенный... — она закурила, громко чиркнув спичкой и неумело выпуская дым вниз, — у него мотоцикл... — Достаточно, — прервала Соврасова, — мне достаточно, чтобы понять, что действительно здесь может родиться любовь. Тоня широко раскрыла глаза: — Ты о чём? — Я о настоящей комсомольской любви, пламенной и вечной... Тоня неумело затянулась и стряхнула на чайное блюдечко густой столбик пепла: — Аня, перестань, я не знаю, что такое любовь, об этом со мной даже не говори. — Бездарная ты, Тоня, — с горечью прошептала Соврасова, — ни любовь внушить, ни доверие — не умеешь... Картошёва, поморщившись, затушила сигарету: — Научи... — Сама же понимаешь, что глупость сказала, этому не возможно научить... — Да, да, Аня, я всё понимаю, — вдруг беспомощно развела руками Тоня, срываясь с шёпота на крик, а с крика — на шёпот, — но я не вижу пока ничего такого в жизни, чему бы я предпочла собственную выгоду, хоть убей, Соврасова, не вижу... Да, я ношу комсомольский значок, верю во что-то, в какое-то там будущее, хорошо, что мы живём в мире и труде, но никто никому ничего не должен, Аня, я не знаю во что мне нужно верить, на кого надеяться, у кого учиться... хорошо иметь такую, как Агнесса Миланская, когда живёшь, на неё одну уповая, как апостол, следуя за её тенью и страдая, что никого лучше её нет, потому что она — самая умная, нравственная, свободная и неповторимая, у меня кумира — нет. Аня, поверь, я тоже хочу его иметь, мы все должны в кого-то верить и на кого-то надеяться, чтобы было у кого просить защиты, ведь так? Мы все должны с кем-то играть, чтобы в случае предательства, как следует отыграться... я ничего не вижу для себя такого, что бы могло меня остановить перед собственной ценой, ни — че — го!... Соврасова долго молчала, внимая всё только что услышанное и прокручивая в голове каждое слово. — Я знаю, — наконец сказала она, — что может тебя изменить, но не приведи Бог тебя к этому... — А в Бога я вообще не верю, — почти плача сказала Картошёва, разъярённо бросая на стол сигаретную пачку, с которой всё это время играли её пальцы. — Правильно, — равнодушно бросила Аня. Картошёва легла на протянутые по столу руки, она слышала, как Соврасова задвинула стул и, тихо одевшись, почти бесшумно вышла из квартиры, ей хотелось вернуть её и сказать, что никого, кроме неё она сейчас не имеет и что она бессильна перед самой собой и не хочет быть пустышкой, но не может бороться... ей хотелось посмотреть Соврасовой в глаза и спросить: а кого ты любишь, но она знала, что Аня никого не любит, потому что она слишком сильно страдает, а от этого она ещё сильнее... Сзади подошёл Паша и обнял её за плечи. Боже, какая чушь, подумала Тоня, сжимая его ладони на ключицах, мы все ещё такие маленькие, у нас вся жизнь — впереди и не нужно ничего бояться!... |
||
* * * ... Тихо щёлкает в двери замок, некоторое время перед глазами — тёмный и мокрый коридор в какой-то знакомой парадной, секунду спустя на пороге появляется Маша в белом халате с раскрасневшимся лицом и ничего невидящими глазами. — Что они сделали с Аней? — спрашивает Агнесса и не узнаёт свой глухой, звучащий, как в рупор, среди глухих коридоров больницы, голос. Пауза... — Они убили её, — спокойно и тихо произносит Маша.... |
||
Агнесса быстро вскинула голову с подушки и посмотрела перед собой: — Аня, — тихо позвала она. Дребезова оторвала глаза от книги и поправив колючий плед, лежащий на коленях, улыбнулась: — Как заново родилась. Миланская потрогала свою крепко затянутую на затылке кичку и удивилась, что так аккуратно спала: — Ты побоялась оставлять меня одну? — холодно спросила она, застёгивая расстегнувшуюся на груди рубашку. — Ты угадала. Агнесса быстро встала с гладко застеленной постели и вышла. В окнах дальних противоположных домов горел свет, небо дышало холодным тёмным январским утром, Маша посмотрела на настенные часы, они показывали пять часов утра, на улице одиноко проехала машина и включили фонари. Миланская вошла в комнату с двумя кружками зелёного чая и, поставив одну перед Машей, спросила: — От холода не спится? В квартире очень хорошо топили, поэтому Дребезова удивилась и, не скрывая эмоций, громко усмехнулась: — Нет, — ответила она отпивая раскаленный кипяток, разбавленный густой зелёной заваркой. Маша взяла со стола тонкий бархатный лист бумаги, под ним лежала фотография, на которой была изображена Агнесса на фоне Статуи Свободы, снимок был сделан издалека, но фигура Миланской отчётливо выделялась, она стояла на палящем солнце в чёрном недлинном платье и держала обеими руками растрепавшиеся против ветра волосы, её загорелые ноги были скрещены. — Почему ты так любишь чёрный цвет? — изумлённо спросила Маша, подняв свои блестящие глаза на Агнессу и наткнувшись взглядом на её чёрную рубашку. — Он — самый независимый из всех... Маша задумалась: — Он какой-то неженский. Незаметная улыбка осветила глаза Миланской, она поднесла кружку к лицу и сдвинула брови от горячего, давшего в ноздри, пара: — Он женский, но таких женщин — мало... Маша отложила фотографию и с нескрываемым любопытством и деловитостью придвинула к себе листок, лежавший на столе. На нём фиолетовыми чернилами была ровно нарисована плоская половинка яблока с едва заметным наклоном вправо, внутри яблока длинным, наклонённым так же вправо узким подчерком с вылетающими хвостиками и неаккуратными длинными чертами у «т» и «ш», было поставлено три цифры и написано: 1. Жизнь 2. Смерть 3. Счастье К рисунку шла жирная несколько раз обведённая стрелка, на хвосте которой было начерчено печатными буквами: этапы пути человека. Маша внимательно посмотрела на стрелку, указывавшую к рисунку и удивлённо спросила: — Ты хочешь смерти? — Что? — Агнесса повернулась к ней всем лицом и Маша была поражена его красотой и неподкупностью светившихся глаз. — Я спросила ты хочешь смерти? — Мне без разницы... — Но ты же пишешь, что после неё — счастье. — А мне не нужно счастье... Маша отложила лист, но ощущение его всё ещё осталось у неё на пальцах и она мягко их потирала, наслаждаясь нежностью своих ладоней: — Зачем ты приехала в Ленинград? — спросила она со вздохом. — Устала. -А здесь надеялась отдохнуть? Миланская облокотилась на стенку и положила на руку аккуратно причёсанную белокурую голову: — Нет, успокоиться... — Аня изменилась? — резко спросила Дребезова. — Повзрослела и похорошела, — отрезала Миланская, проводясь змеиным взглядом по Машиному нежному лицу. — Она всё так же пишет стихи? — не унималась та. Агнесса помолчала и улыбка негодования прояснила её лицо: — Я забыла, что она их когда-то писала. — У тебя же целый сборник... Миланская прервала её: — Нет... — Что? — Его уже нет. — Как? — Маша была поражена до глубины души, её наивная доброта, граничащая с глупостью, возбудила в ней невероятное чувство беспокойства к тому, что сказала Агнесса. — Я сожгла их, — ответила та, сужая глаза и вглядываясь в небо, — да, а горели красиво — постранично, ровненько: один за другим... — А зачем ты это сделала? — Мне достаточно, того, что мы — плоть от плоти, зачем мне её душа? — Плоть от плоти... — задумчиво повторила Маша, — как это получилось, что вы стали так близки... Миланская наклонилась и сжала локти в бледных ладонях, ровный пробор её осветился светом лампы, на улице пошёл снег: — Нет на земле преданней и выше любви, чем любовь к учителю, а ему в свою очередь не найдётся роднее и ближе своего апостола. Наступило молчание, Маша долго разглядывала в темноте Агнессины черты лица, полуосвещённые тусклой лампой с оранжевым абажуром: светлые губы Миланской были закрыты и расслаблены, они выражали уверенность и пренебрежительную ласку, смотревшую куда-то глубоко во внутрь, в глазах был блеск — отражение ума и беспокойной, до ужаса решительной души. — Ты не хочешь спать? — осторожно спросила Дребезова, боясь нарушить Агнессину задумчивость. Не меняя выражения лица, та медленно ответила: — Я потеряла снотворное... — А без него не можешь? — Не хочу. — Почему? Миланская усмехнулась: — Мания борьбы. На улице становилось светло, когда Маша положила голову Агнессе на колени и закрыла томные глаза не в силах больше сопротивляться усталости. Миланская безжизненно смотрела в окно на серое небо, откинувшись спиной на стену и скрестив по всей длине дивана онемелые ноги, её пальцы бессознательно трепали длинный воротник Машиной кофты и когда холодные пальцы касались её горячей шеи, Агнесса машинально их сжимала в кулак и сидела так в полной тишине, мысленно считая долгие секунды наступающего утра... |
||
ГЛАВА 13 В узком тёмном проходе школьного коридора показалась стройная фигура Ани Соврасовой, одетой в комсомольскую форму с синей пилоткой на голове, приколотой двумя невидимками к блестящим тёмным волосам. — Собрание закончилось, — сказала она мягко кому-то, проходя по стенке узкого коридорчика. — Тебя кто-то ищет, — ответили ей. Спустясь на первый этаж школы, у гардероба она увидела медсестру Наташу, ту самую, которая работала с Людмилой Николаевной. Взволнованная Аниным появлением, она быстро замялась на одном месте, судорожно перебирая пальцами тонкий шнур маленькой сумочки, периодически роняя её на пол. Соврасова остановилась и пристально посмотрела на Наташу, пытаясь сообразить что ей здесь может быть нужно. — Где Тоня Картошёва? — спросила та, перескакивая взглядом с одного Аниного глаза на другой. — Она на втором этаже, — Аня сложила руки на груди, показывая белоснежные манжеты накрахмаленной рубашки с ярко чёрными пуговицами в виде ромбика, и заинтересованно посмотрела на явно не понимающую что нужно делать, говорить и спрашивать медсестру, — её позвать? Та затрясла головой, категорически отвергая это предложение: — Скажи ей, Аня, — вдруг произнесла она строго, — что мама в больнице, у неё сегодня был сердечный приступ, и ничего не нужно говорить отцу... — В какой она больнице? — В институте хирургии Вишневского. — Что-то серьёзное? — спросила Аня уже в пол-обоборота, собираясь бежать к Тоне. Наташа пожала плечами: — Ничего особенного, говорят. Раздражённая такой бесчувственностью и цинизмом, Соврасова резко отвернулась от ничего так и не понимающей девушки и,цокнув языком, быстрыми шагами удалилась наверх. — Тоня, — тихо сказала она, подходя со спины к Картошёвой и кладя на её плечо руку, — маму опять положили в больницу... туда же. Тоня схватила Аню за рукав и, не отпуская плотной ткани синего пиджака, быстро спросила: — Когда её положили? — Не сказали. — Отец знает? — Нет и не должен. Некоторое время они стояли так друг напротив друга, уткнувшись в невидимую точку, на которую опирался взгляд, пока Соврасова не вырвалась, пристально смотря на Тонин лоб и как бы спрашивая с упрёком: почему ты ещё здесь, и не отошла в другой конец класса. Ещё в некоторой нерешительности постояла она в классе, думая какие меры предпринимать, и, решив, что всё равно хотела уйти с четвёртого урока, Картошёва демонстративно запихала в сумку большие учебники и ни с кем не попрощавшись вышла с таким видом, будто её выгнали отсюда силой. Витя внимательно проводил её взглядом и только когда она ушла, пока никто не видел, подошёл к Ане и на ушко спросил: — Какая-то беда? — Да отстаньте вы все от меня, — прошипела Соврасова, удивившись, что наконец попросила об этом. |
||
* * * Наверное мужчины боятся спортивных девочек, каждый раз думала Картошёва, когда смотрела на Аню, — от них не знаешь чего ожидать. Аня была спортивной девочкой с большими запросами к себе в физическом, если так можно выразиться, смысле. Она, по-солдатски, привыкала к тяжёлым условиям, изнурявшим её тело, часто спала на полу при открытой форточке, не укрываясь при этом вовсе одеялом. Голени её всегда представляли предмет любования — они были спортивными, мускулистыми, с каждой чётко выделяющейся косточкой колена. Да, Аня любила изнурять себя физическими нагрузками: бегать по утрам, играть в баскетбол — она с удовольствием ощущала своё тело...в этом тоже было что-то великомученическое, от чего подчас кружилась голова и одолевала гипотония. Я ведь чья-то плоть, с усмешкой утрируя мысленно местоимение, думала она с отвращением. И не только Тоня видела в Соврасовой эту силу и неприкосновенность, были и другие люди, не знающие что ожидать от этой красивой комсомолки именно из-за того, что она так прославляла школу своим спортивным фанатизмом и строгим отношении к своей природе физической. Один из таких, далеко от неё стоявших, а потому боявшихся за каждую неожиданность и новое достижение, был Рома Акерманн, бессменно восхищающийся ею ещё с тех времён, когда Витя даже не пришёл в класс, а Аня была тихой девочкой с несуразно толстыми косичками и вечно покорным, которое впрочем её и по сей день не покинуло, выражением тёмных глаз. И сейчас, он стоял с ней в своей прихожей, поминутно взглядывая в её глаза, упиравшиеся в его лоб, который находился почти на одном уровне с её. — Ну, проходи, — тихо сказал он, отдавая свои мягкие тапочки. Квартира у Ромы всегда была намыта до блеска. В деревянном лакированном полу можно было увидеть своё размытое отражение, а зеркала были надраены с такой силой, что казалось, в них можно войти. Бордовые тяжёлые занавески вечно плотно закрывавшие окна и не допускавшие ни малейшего попадания света в гостиную пахли чем-то совсем новым, толи лаком, толи клеем, а может быть стиральным порошком — этого никто никогда не знал, на тяжёлом комоде стояли различные сервизы и хрусталь, бронзовые рюмочки, привезённые кем-то из Венеции стояли по возрастающей: от мизерной до самой большой кубкообразной. Аня, никогда раньше не приходившая к Акерманну, смотрела на всё это с явным интересом, но некоторым пренебрежением, будто не понимала к чему вся эта излишняя роскошь, эта дотошная чистота, пахнущая хозяйственным мылом и мастикой, которой натирались полы, эта постоянно холодная и неуютная, какая-то музейная мебель, к которой прикасаться не хотелось, да и не разрешали особенно: у Ромы была бабушка, прожившая на свете уже куда больше, чем полагалось, которая встречала каждого приходившего к внуку зорким глазом и соображала и догадывалась и предполагала, зачем это, собственно этот одноклассничек пришёл сюда, а может быть ему здесь что-то пригляделось и ручки тянутся?... Бабушка была с подозрениями на всех, даже на Ромочку, который, приученный к этому с детства, относился к ней очень трепетно и послушно выполнял все её просьбы. Что говорить, над ним имели власть: никто так, как бабушка, Акерманна не любил. — Проходите, девушка, — сказала сгорбленная маленькая старушка с молодым лицом и большими глазами, она взяла Аню за локоть и повела перед собой в комнату, чего Рома, почему-то испугался да ужаса, видимо решив, что Соврасова может ни с того ни с сего махнуть рукой и тогда что-нибудь полетит или бабушка отлетит в другой конец комнаты, задетая Аниным непомерно сильным локтем. Но Соврасова шла покорно вперёд, слегка смущённо улыбаясь и то и дело оглядываясь на бабушку. — Вот, садись, милая, — сказала та, властно посадив Аню на край дивана, снисходительно показывая всем своим видом, что она разрешает ей сесть, что является великой благодатью. — Бабусь, — болезненно пролепетал внучек, — ты иди... Та с укоризной посмотрела на него, но ничего не сказала и вышла. — Ну, в общем, Рома, — продолжила Аня начатый разговор, поправляя на коленях юбку и с невероятной тоской, вдруг одолевшей её, смотря на свои руки, — не можешь — не надо, просто у него в феврале день рожденья, я хочу всё это успеть сделать как можно быстрее. Он замялся и стал ещё более неприятен Ане. — Ну, что, что, — почти раздражённо сказала она, — тебе же ничего не стоит попросить отца издать один единственный экземпляр его стихов, просто напечатать и скромно оформить, Рома, — один, — при этом она показала пальцем число, которое произнесла, выгибая при последнем слове губы, как Агнесса, и впиваясь в него глазами. Рома поник, он знал, что если откажет Ане, то доверие её навсегда будет для него потеряно и боялся этого больше, чем если бы ему сказали, что она не хочет его видеть... — Хорошо, я поговорю с папой, — сказал он слабо, смотря на свои тапочки, одетые на ней и поднимая взгляд на голени в чёрных плотных колготках. Аня склонилась и задумалась, посидев так с минуту, она наконец резко встала и слегка улыбнувшись, ответила: — Ну вот и славно, спасибо большое. — Ты не попьёшь кофе? — спросил он, смотря на неё с низу в верх. — Нет, спасибо, — заторопилась Аня, не желавшая того, чтобы Ромина бабушка вмешалась в разговор и оставила таки её пить кофе с большим количеством цикория в этих неестественно пахнущих светлых стенах. Она быстро оделась и, попрощавшись со старушкой, уже на лестничной клетке, обернулась к Роме и сказала: — Если что, позвони мне сегодня. Он польщённый этим предложением, кивнул головой и вжался в косяк, не зная, как попрощаться. — Ну всё, — она помахала рукой, светло улыбаясь. — До встречи, — ответил тот, бессильно пряча свою надежду как только возможно глубже. |
||
* * * «Если хочешь, чтобы люди сделали тебе зло, сделай им сначала добро.». Эти слова неустанно любила повторять Тонина мама и они совсем не были «блаженной чушью», как называла их сама Картошёва. А благодарность детей к их родителям порой переходит такие границы, что хочется просто безгранично и не переставая давать, давать им и давать все жизненные блага с тем лишь только, чтобы в ответ получать, получать и не успевать ловить кинутую метко в лицо грязь. Именно это имела в виду проницательная Людмила Николаевна, когда, сложив руки на груди, со страхом говорила о добре и зле. В длинном и очень чистом коридоре института хирургии было десять дверей по одному ряду — палаты, и три — по другому — хирургические кабинеты и операционная. Изнеможённая долгой дорогой на третий этаж, Тоня, поправляя руками волосы на красном лице и то и дело смущённо смотря по сторонам, нерешительно направилась к предпоследней палате у выхода на другую лестницу, через которую, как правило, выносили гробы. — Я совсем не помню, когда ко мне последний раз приходили, — говорила средних лет женщина с жёлтым маленьким личиком, обсыпанным родинками, и весело смотрела на свою соседку напротив, вязавшую отвлечённо бесконечный шерстяной носок серого цвета непонятно на кого рассчитанный. Тоня посмотрела на пустые койки, их было две, одна — у самого входа, вторая — у окна. — Вам, кого, девочка? — спросила та, что вязала и посмотрела на Тоню осовелыми зелёными глазами с редкими короткими ресницами. — Картошёву... — не успела Тоня договорить, как та её перебила, бойко отрывая нитку тонкими пальцами: — Так, она на обследовании. — Где? — Ну, по врачам ходит, у хирурга может... вы подождите здесь-то. Тоня минуту колебалась и тихо поблагодарив, закрыла за собой дверь снаружи, оставшись в прохладном, освещённом и пахнущим хлоркой коридоре. Она села на мягкую скамью, стоявшую недалеко и с интересом уставилась на тех, кто сидел напротив. У противоположной стены сидела пожилая женщина в красной косынке и синем, похожем на рабочий, халате, рядом с ней на стену прислонялась спиной юная девушка, сосредоточено очищая сильными пальцами апельсин и всем лицом, наклонённая вниз. Женщина же довольно на неё смотрела, счастливо улыбалась и было понятно, что дорожила каждой минутой присутствия этой девушки рядом. Та закончила чистить апельсин и, сглотнув слюну, робко посмотрев на женщину, протянула его: — На, мам, — деловито сказала она и поправила на её голове косынку. Картошёва стала вглядываться и по мере того, как рассматривали её глаза, менялось Тонино лицо. Девушка, с лицом самодовольной феминистки, презирающей своих сверстниц за посредственность взглядов и отсутствие проницательности, бледная и скуластая с тёмно-вишнёвыми глазами, выцветшими, как сено на солнце волосами и губами, выражающими истеричность, одетая в комсомольский пиджак и тёмную длинноватую юбку, смотрела на Картошёву своими пусто дышащими глазами с раскинутыми в стороны бровями и постепенно губы её расплывались в льстивой, но вполне милой улыбке. — Настя, — громко произнесла Картошёва. — Ну не ожидала, — грубым голосом отозвалась та, всё ещё протирая пальцы от запаха апельсина. Настя Голицина была на два года старше их всех, училась она на стенографистку в каком-то новопостроенном институте и вела активную жизнь в деятельности партии, подрабатывала на заводе и, помимо того много читала, как это только было возможно. Последний факт — это то, о чём она сама всегда не без гордости и чувства удовольствия говорила о себе, рассказывая бесконечные истории о том, какую книгу она читает теперь, почему она выбрала именно её и что в ней хорошо, а что плохо. — Ну что, как ты здесь оказалась? — спрашивала она с такой деловой важностью, будто они только вчера с Тоней расстались и непременно договорились отчитываться друг перед другом во всём. — Мама, — сказала та, взглянув на пожилую женщину на скамье, медленно евшую апельсин и с удовольствием смотревшую на дочь. Настя повернулась к маме, что-то её сказала и они, долго прощаясь, целуясь, обнимаясь и смотря друг на друга, наконец расстались. Когда женщина скрылась за дверью той самой палаты, где лежала и Тонина мама тоже, Настя обратилась к той: — Я давно вас всех не видала. Соврасову последний раз — в декабре. С «ними всеми» Настю познакомила именно Аня, которая сама узнала её только летом в пионерском лагере, где они были связаны крепкими узами одних обязанностей пионервожатых. Голицина была в восторге от Ани, её почти преданное к ней отношение граничило с самопожертвованием. Они жили на разных концах города и редко звонили друг другу, но когда встречались, казалось ближе людей нет. Настя в виду строгого, почти мужского или даже мужицкого нрава и сильного, закалённого жизнью и её бытом характера, никогда не позволяла себе пускаться в нежные проявления чувств и эмоций, а потому никто никогда не знал её наверняка и не мог объяснить её действий, поступков, а то и слов, и отношение её к Соврасовой не знала толком даже сама Аня, только иногда удивлялась, почему вдруг Настя жертвует своими интересами и принципами только от того, что сама Соврасова совсем далека от них или испытывает некоторую неприязнь к тому, что они в себе несут. Медсестра провезла мимо тележку с обедом: запахло чечевицей — горячей и чуть подкисшей, по радио с треском заиграла песня «Белой акации гроздья душистые» и Настя, сдвинув брови, прислушалась к сильному полному голосу, поющему трагичную музыку. — Как дела у Ани? — спросила Голицина, не дожидаясь слов Тони. — Как всегда — на высоте, — соврала Картошёва, которой нынче было особенно неприятно вспоминать одноклассницу ещё и потому, что та так сильно страдала по разным неведомым причинам, ни одной из которых не являлась Тоня. Голицина бессмысленно кивнула головой, поняв, что о том, как дела у Ани она спросит лучше у самой Соврасовой, и потеряв к Тоне всякий интерес, она с трудом спросила: — Ты ещё остаёшься? — Настя взглянула на Картошёву исподлобья и её взгляд, лицо и тон, с которыми был задан вопрос выражали: «Только попробуй сказать мне Нет». Тоня не так чтобы угадала этот взгляд, но Настино желание простится совпадало с её собственным, поэтому она довольно кивнула: — Долго ещё наверное ждать. — Ну тогда простимся, — улыбнулась Настя. Тоня кивнула и они, в полнм неудобстве, из которого не смогли вывести друг друга, сконфуженно кивнули головами и таким образом простились. Картошёва проводила Настю взглядом, она шла тяжёлой слегка переваливающейся походкой, с балетным разворотом ноги, который дало ей фигурное катание. Тоня пожалела её, но это было не пустое сожаление и не заботливое, а какое-то странное вперемешку с отвращением и желанием не заразиться той атмосферой жизненного неблагополучия, которая царила вокруг Насти и так навязчиво передавалась остальным. «Где же мама?» — взволнованно думала Тоня, и хоть ничего не торопило её, постоянно смотрела на часы, минутная стрелка которых, как на зло почти не двигалась. Она так и не дождалась маму и расстроенная тем, что так много времени потеряла и вместе с тем не нашла в себе сил всё — таки докончить это дело, она села в трамвай, ехавший прямо к старому Арбату. «Ой, как не хочется с Пашей встречаться,» — подумала она, вспомнив, что сегодня они вместе идут в кино. Тоня подумала о том, что отношения их совсем далеки от искренних, а понимания между ними не существует как такового, потому что она находится с ним только из-за выгодности этого положения, а он с ней из чувства лёгкой эфемерной привязанности, которое, она знала, никогда к её счастью не перейдёт в любовь или даже влюблённость. Ей опять стало противно от всего, что её окружает и что она делает, она поморщилась и, как писал великий гуманист, с чувством нравственной, переходящей в физическую, тошноты, вышла из пустого трамвая и пошла пешком, смотря на чёрные и бесформенные с разводами соли по бокам, сапоги, которые не знали, что такое быть помытыми, с начала зимы, а потому уже потеряли свою форму, цвет, пол и возраст... |
||
ГЛАВА 14 Маша Дребезова жила в Гатчино на Проспекте 25 Октября. Её дом находился за двухэтажным кирпичным домом булочной и кондитерских изделий, маленьким но броским, из-за цвета и ощущения старины, которое он создавал. Агнесса поднялась на второй этаж просторного и холодного подъезда с выбитыми окнами и позвонила в дверь, за которой сразу же послышались голоса, ругань и что-то звонко упало, оказалось — таз. — Извини, — сказала растерянная Маша, не пуская Агнессу за порог, — я мигом оденусь. Миланская осталась в подъезде, не входя в квартиру, её лицо, чуть порозовевшее от снега сияло дружелюбием и радостью ровно столько ему непривычными, сколько привычно холодно и серьёзно смотрели чёрные, как сажа, глаза, которые теперь казались так не к стати в этом озарённом ясностью и милосердием лице. — Всё, — торопливо сказала Маша, застёгивая на ходу своё чёрное приталенное пальто и грубо закрывая тяжёлую дверь, — надоели... — сказала она про соседей. На улице было тихо и тепло, редкий снег ложился на землю и сразу таял, оставляя землю мокрой и блестящей. Дребезова взяла Агнессу под руку, ощупывая с удовольствием холодный и приятный для ладоней шёлковистый рукав её барашковой шубы: — Просто хотела перед твоим отъездом хоть разочек побыть с тобой по-человечески, — сказала она, как бы оправдываясь. Агнесса с трудом сглотнула, тяжело дыша и сдерживая усталость, одолевавшую её с самого утра. Когда они подошли к Адмиралтейским воротам Гатчинского парка, на них хлынула та пустота и даже опустошённость красоты, которой дышала вся природа в нём, начиная от пруда, заледенелого твёрдым белым стеклом, заканчивая грузными деревьями с лёгкими прозрачными осколочками инея на ветках ; опустошённость, которая бывает только тогда, когда людное место вдруг становится по какой-то причине пустым и одиноким. Теперь же был рабочий день, а потому в парке не было ни души. Идя медленным шагом от дворца в глубину парка, вдоль по берегу, спускающемуся вниз, они молчали, Агнесса смотрела в воздух, который играл перед её глазами холодным блеском, а Маша — под ноги. — И хорошо тебе в Москве? — спросила она, вскидывая кудри, выбивающиеся из-под вязанной шапочки и смотря на Агнессин профиль с нескрываемым удовольствием и радостным, каким-то детским умилением. — Мне там непривычно, — ответила та с внезапно появившемся в её душе отвращением, в котором она конечно не отдавала себе отчёта. — Ну у тебя же там все. — Кто все? — с этим вопросом Агнесса посмотрела на Машу выразительным взглядом, в котором явно читался укор и пренебрежение, вызванное тем, что Миланская прекрасно понимала КОГО Маша имеет в виду, говоря «все» и не одобряла этого мнения о себе. — Ну друзья, — не смутившись ответила та, хоть и поняла полностью взгляд Агнессы. Агнесса тяжело, несвойственно себе эмоционально вздохнула: — У меня там папа, которого я еле удерживаюсь не отравить собственными руками и Аня Соврасова, — произнеся это имя она исподлобья взглянула на Дребезову и взгляд её выражал: «Ты этого ждала?» — которая еле удерживается, чтобы не отравить меня... — при этих словах она звонко засмеялась удачному окончанию своей фразы, которое, как её показалось, было не только остроумным но и вполне могло быть названо проницательным и неожиданным. Маша улыбнулась её душевному смеху и тоже не могла не усмехнуться. Они стали проходить лодочную станцию с глухими забитыми гнилыми досками окнами, перекошенная крыша шумно отзывалась на колебания ветра, её металлические пласты, давно уже отлетевшие от винтов в некоторых местах колебались, как бумага на ветру. — В жизни не встречала ничего более удивительного, магнетического и вместе с тем правдивого, чем ваши отношения с Соврасовой, — восхищённо сказала Маша. Она знала достаточно много об этих отношениях, достаточно для того чтобы со смелостью судить о них и небезосновательно высказывать своё мнение. Агнесса вскинула глаза и остановилась, держа руки в карманах шубы: — Наши отношения с Соврасовой, это — не отношения... Это — игра, которая скоро должна кончится... Дребезова пропустила мимо ушей вторую часть Агнессиного ответа и озадачено спросила: — Почему ты сказала, что это — не отношения?! — Отношения... вслушайся в это слово, — Миланская понизила голос, — кто-то к кому-то относится, как перпендикуляр относится к основанию, как одна часть романа относится ко второй... — она помолчала и голос её становился всё нежнее и вкрадчивее, — людей что-то связывает, поэтому они говорят, что между ними — отношения, — Агнесса почти выдохнула это слово убаюкивающим голосом, — а между нами с Аней нет никакой связи, нас ничего не соединяет и не держит друг у друга... это просто заполнение пустого места. Маша расширила глаза: — Ну как же? — строго спросила она, придвинувшись к Агнессе и обдав её запахом своего ромашкового крема, — она любит тебя... — А она потому и любит, что в этом нет никакой связи, а главное нет обратного звена... Это — безответно, ты понимаешь теперь? Любовь — это только безответность и больше ничего, а то, что взаимно уже не любовь, а партнёрство... — Ты хочешь сказать, что любовь взаимной не бывает? Агнесса утвердительно кивнула головой и улыбнулась тому ужасу, который выразился на наивном Машином лице: — Любовь не допускает взаимности, любовь — это запрет, ты понимаешь? Взаимность для неё — оскорбление... Маша усмехнулась, разуверив себя в своём прежнем отношении к любви: — А ты когда-нибудь любила? — спросила она. — Я маму любила. За её неподкупность. А потом увидела, как всё может изменить человека... всё или ничего, когда в Вашингтоне, уже почти за неделю до развода мы говорили с ней и она сказала, что не сможет больше в жизни посмотреть в глаза отцу, оттого что он — тварь, продажная и подлая, готовая убить того, кто отнимет у него... а этим же вечером, — Миланская замолчала и склонила голову, — он купил ей кольцо с бриллиантом и она больше ни слова не сказала, просто ответила, что не разведётся, она всегда жила на его содержании, смирялась с тем, что он играл ей, её самолюбием, её жизнью и душой, о существовании которой он даже не задумывался. Она не отдавала себя ему, а продавала, и вот тогда я поняла, что трагедия неподкупности людской — в её отсутствии. Маша затаила дыхание и взяла край Агнессиного рукава в свои руки. — А зачем тогда любить людей, я не знаю, — договорила она и медленно подошла к маленькой низкой пристани, от которой отъезжали лодки, и у которой теперь был только тонкий лёд, с плескавшейся под ней холодной и тёмной водой. — Значит все мы продажные? — прошептала Маша, стаявшая на краю пристани спиной к воде. Агнесса кивнула. — А ты? — всё так же шёпотом спросила она. Миланская неожиданно улыбнулась красивой юношеской улыбкой, которая освещала её лицо и образовывала у краев губ несколько ровных складочек: — А я другая, — ответила медленно она, продолжая непонятно от чего хитро и азартно улыбаться, — я не продажная, но в любой момент могу скинуть, — с этими словами она вцепилась рукой в тонкой кожаной перчатке в Машин рукав и подтолкнула её спиной назад, при этом плотно держа и не давая ей упасть, но подойдя к ней так, что ступить не было места и если бы Агнесса отпустила, то Маша упала бы спиной в холодную прорубь. Она в ужасе вскинула взгляд на Агнессино лицо и встретив глянцевые глаза, блестящие настолько, что отражали в себе её длинные ресницы, когда она их опускала, Маша поняла, что эти глаза могут не только скинуть, они и убьют — без колебания, сомнения и страха. — Ты когда-нибудь доиграешься, точно тебе говорю, — сказала Маша, когда Агнесса уже более уверено поставила её на ноги и она знала, что теперь сможет в противном случае устоять. — Поподробнее пожалуйста, — усмехнулась та, совсем подтянув её к себе и взяв под руку. Они пошли дальше по направлению к желтокаменному дворцу, возвышавшемуся, словно скала в холодном сплошном, как белая простыня, небе. — Агнесса, я как медсестра тебе говорю, не пей ты это снотворное по ночам. Миланская удивлённо посмотрела на Машу и её лицо стало совсем серьёзным. — Ты же сердце своё изводишь, хочешь от инфаркта умереть? — Перестань, дорогая моя, — Миланская перешла на тон, которого Маша больше всего боялась, это было проявление высокомерия и в сущности большого отвращения её ко всей чуждой ей жизни, это случалось припадками, из которых её трудно было вывести и вернуть к нормальному состоянию. — Хорошо, хорошо, просто я волнуюсь за тебя... — Я сама знаю что делаю... мне не нужно никакой заботы, избавь, будь добра. Они замолчали, одна — оскорблённая и подавленная, вторая — возбуждённая и недовольная нарушением своего спокойствия. Вдалеке забили колокола: местная церковь созывала на службу. Они уже подходили к Адмиралтейским воротам и Маша,оглядев парк, поняла какую огромную петлю они сделали. Остановившись у карты-схемы Агнесса спросила: — Тебе не холодно рукам?... Дребезова машинально сказала правду: — Холодно очень. Миланская быстро сняла чёрные кожаные перчатки на лёгком осеннем меху и всунула их в Машины ладони. Та не сопротивлялась: — А тебе? — У меня очень глубокие карманы. — Спасибо, Агнесса, — Маша с нежностью положила руку ей на плечо, касаясь красными отмороженными пальцами открытого затылка: волосы Миланской были затянуты наверх, — как всегда — без шапки... жаль, что не бережёшь себя, — она усмехнулась с какой-то жалостливой, взрослой и упрекающей улыбкой, — авантюристка чёртова! Агнесса не мигая проговорила сквозь зубы: — Интригантка... — И это тоже! Они вышли на проспект и когда дошли да булочной, Маша сказала: — Никаких глупостей, садись сейчас же на автобус и — домой. Миланская медленно высвободила руку из руки Маши и кивнула: — Не переживай, — сказала она равнодушно смотря на двери булочной. — Ты видишь своё будущее как-нибудь? — неожиданно спросила та. Агнесса даже не задумалась: — До двадцати четырёх лет исключительно, дальше — провал, — уверенно ответила Миланская, — помолчав она добавила, — причём — до ноября... — Что до ноября? — До ноября вижу свою жизнь. Знаю, что до двадцати четырёх будет всё — сплошной чертой, потом — ноябрь, а потом — пунктир... — она прищурила глаза, как бы вглядываясь в предсказание. — Чего ты хочешь в жизни??? — Хочу сделать с сбой всё, на что только способен человек. Маша не слушала её, она вдруг оживилась: — А после ноября — что? — испуганно спросила она. — Не вижу. Но ноябрь ещё остаётся... почти целиком... до ноября, — медленно повторила она, — ну ладно, иди, — и подтолкнула её рукой. Маша помахала и пошла к дому, Агнесса стояла у угла до тех пор, пока её маленькая фигурка с бойкой мальчишеской походкой не скрылась в парадной, и тот час же остановила резко притормозившую у самых своих ног такси. — Ленинград, Фонтанка 15, — сказала она пожилому, с молодым лицом и седыми без единой прожилки волосами таксисту татарину. Он кивнул головой и она с размаху захлопнула за собой тяжёлую жёлтую дверь, вдохнув запах машинного масла и обшарпанных шерстяных сидений. — Поехали через Красное село, — попросила она и на его удивлённый взгляд добавила, — там можно разогнаться быстрее. Таксист хитро улыбнулся и с удовольствием нажал на газ. Когда они выехали на главное шоссе, по бокам которого были деревенские домики, поражающие своей убогостью и застланные серо-белым снегом поля с выцветшей травой и стогами сена, засыпанными какой-то грязью, машина поехала так быстро, что Агнесса едва успевала схватиться рукой за поручень на резких поворотах. Он быстро взглянул на неё, пытаясь украсть у этой молодой, окутанной свежей прелестью и тайной девушки хотя бы йоту её красоты и света, от неё исходившего. — Какая красивая, — сказал он, не сдержавшись. Агнесса задумчиво смотрела в окно, сдвинув брови и слегка прищурив глаза, она не обратила на его слова никакого внимания, или просто не услышала. По радио сквозь треск, шум и поминутное мычание слышались звуки рояля — это были джазовые аккорды, сопровождаемые резкой партией трубы, вступавшей на модуляциях. — 4567 ЛГ, отвечайте, — послышался женский голос, монотонный и усталый, он доносился из висевшей на торпеде трубки-микрофона и тоже, как и радио, прерывался поминутным треском или молчанием, — отв...., 4567 ЛГ, слышите,... — треск — Московск... московский проспект дом 14, въезд с подворотни,... — Киевское шоссе,... Агнесса закрыла глаза, звуки джазовой музыки стали слышны более отчётливо, теперь почти без помех. Их прерывал только женский голос, всё так же монотонно и нетерпеливо обращавшийся к таксисту. «До ноября, — крутилось в голове Агнессы, — до ноября, до ноября, 24...» — мысли шли сами собой, как-то быстро наворачиваясь на память, визуально — подобно толстой нити на катушку, всё это давило, сжимало, выдавливало изнутри боль и почти физическую тошноту, быть может отчасти связанную с запахом в машине. Агнесса почувствовала, как дрожат её закрытые глаза и неудержимо горячеет лицо, Рука бессознательно свесилась с сиденья, голова закружилась, это было похоже на потерю сознания, но она всё слышала, чувствовала, ощущала и даже могла контролировать себя. — Некрасовский 18, — говорил прорвавшийся голос, — въезд с рынка,... Киевское шоссе..., Моск.. Московск... Московский проспект..., заказ квартира 15, дом 5 дробь 1 — Ленинский проспект,... Ленинский проспект, ответьте, Ленинский проспект, въезд через ворота разрешён,...4567,... Агнесса слушала ветер, стучавший в окна и свистящий от скорости, периодически её сознание прорывалось музыкой, всё теми же тихими и ненавязчивыми звуками рояля, и когда вдруг слышался опять женский голос, голова почти трезвела и глаза находили силы открыться, но потом опять всё пропадало, сквозь трубку вламывался треск и гул, и всё начиналось сначала... «До ноября», — опять вспомнила Агнесса и перед глазами встало усталое Машино лицо с тёмными, крашеными в хвою кудрями, выбивающимися из-под вязанного берета, её бегающие глаза и смелые губы со смешным переходом от кончика носа до верхней губы.Создалась иллюзия, что она совсем рядом и сейчас подойдёт и обнимет, или укроет заботливо покрывалом. — Петроградский район, Петроградск... р.. н.... Петр.. 115... дом 115..., примите заказ, Петрг... пр.. сп... — треск, гул, звуки станции Маяк и опять монотонный голос, — заказ со станции, Финляндский вокзал, разворот с Невы, въезд к четвёртому выходу... четверт... Примите заказ..., 4567, отвечайте. Агнесса окончательно открыла глаза, когда они уже на всей скорости неслись мимо новых построек Варшавской, минуя трамвайные пути и подскакивая на ухабах. Она посмотрела в лобовое стекло, вдалеке, на невидимой полосе горизонта в дышащем вечерней прохладой и холодным ветром небе, заходило солнце — ледяное, огромное, светло — розовое, распластавшее своё зарево по всей полосе деревьев, на крыши домов и толстые телеграфные провода. Агнесса вздохнула легко и расслаблено. Она с незаметной улыбкой посмотрела на таксиста, который, изо всех сил выжимался, прибавляя скорость даже там, где нельзя и объезжая неровные поверхности дороги. Смуглое лицо было сосредоточено, добрые глаза серьёзно обводили взглядом шоссе, он держал руль одной рукой, а второй или переключал скорости, или же просто клал её на колено. На улицах было спокойно, казалось, Агнесса очень долгое время уже не была в Ленинграде, она с удовлетворением смотрела на невзрачные окна магазинов, светящиеся жёлтым огнём и пред глазами всё ещё стояло, неотступно преследуя её по всему небу то самое заходящее солнце, похожее на ватную марлю, впитавшую в себя кровь и подставленную под воду. «Как я устала», — подумала она, ощутив в расслабленных коленях полную неготовность подняться. — Остановите, пожалуйста, — сказала она подсевшим голосом, когда они ещё не доехали до её дома, а стояли у Казанского собора, — я пройдусь. Таксист послушно припарковался там, где его попросили и открыл дверь... На прощанье он помахал рукой и она слабо ему улыбнулась, благодаря за всё, отпуская на долгую дорогу и провожая в свою, чуждую и опять безотчётно противную ей жизнь... |
||
ГЛАВА 15 — От каждого слова твоего мне противно, — сказала Аня и,настойчиво не спуская глаз с Тониного лица, продолжала завязывать на пальцах шнурок. В пустом эхе школьного гардероба послышались чьи-то шаги. — Наверное ты не знаешь, что такое не любить маму, — ответила Картошёва. Мраморный пол только что вымытый с порошком отражал в себе яркий свет больших ламп, образовывающий вокруг светло-зелёных колон особенно широкие круги. Это был обман зрения, который Тоня никак не могла уловить и с интересом наблюдала за каждой меняющейся перед её глазами визуальной фикцией. — Слушай, Аня, — медленно сказала она, желая отвлечься от темы как можно быстрее, — посмотри-ка на пол, вон там, у колонны видишь свет отражается? — Пол слишком блестит, — как бы предупредив её вопрос ответила та. — Ну я не о том, просто, почему вокруг ободка там внизу — ярче. Аня не поняла: — Что значит ярче? — Как будто колонны отдельно освещаются чем-то. Аня задумчиво вгляделась, больше из-за желания сделать Тоне приятное, чем от собственного интереса. За решёткой стояли многочисленные вешалки с табличками, на которых написан номер класса. — Хочешь обратно в школу? — спросила Тоня. — Да мы ещё не закончили её. Наступила тишина. Опять — такое чувство, что сейчас можно лечь на скамью, вытянуться во весь рост и заснуть навсегда. — Ты ведь Витьку тоже не любишь? — быстро спросила Картошёва и прядь немытых волос, согнутых резинкой, упала ей на лицо. Аня повернула голову, блеснув тёмно-каштановыми, в противовес Тониным, чистыми и аккуратно затянутыми волосами: — Что значит — тоже? — быстро и тихо спросила она, едва не дотягивая гласные. Тоня помолчала в задумчивости, потому что поняла как много значений имело это «тоже», и, как бы, пользуясь случаем, в каком значении лучше употребить, склонила голову набок, смотря на Анины туфли. — Ну, я не знаю, — вдруг протянула она изнеможённо, — за что, скажи мне, можно любить человека, если он ничего для тебя не сделал? Аня продолжала созерцательно слушать и не собиралась отвечать как-либо на Тонино уже никому не новое занудство. — В общем, ты не любишь Витю, так же как я — Пашу. Это совершенно разные, конечно, вещи, но, Аня... этим и нелепей выглядишь ты. Потому что мы с Терентьевым — никто друг другу, даже не друзья, и сами это понимаем, хоть и пытаемся скрыть тщательно. А вы с Витюшей ( она специально назвала его так, как называла только одна Аня ), вы ведь друг с другом уже третий год драму ломаете. Да ещё ищете конфликта... а зачем его искать-то, у вас отношения — один сплошной конфликт и мне тошно на вас смотреть, потому что вы высасываете друг из друга последние чувства. Это — ещё более мерзко чем моя страсть к собственной выгоде: я хотя бы в открытую загребаю. А вы так — скромненько рисуете из себя влюблённых, дураки. Зануды вы, тошно! Аня всё это время спокойно оглядывала Тоню и лицо её, как и глаза, не выражали ничего чувствующего. — Да молчала — бы, — только бросила она и с переполняющим её душу брезгливым чувством, похожим на то, когда пристанет к одежде несмываемая грязь и враз испортит всё, она встала и быстрым шагом вышла из гардероба. — От каждого слова моего ей противно, — повторила Тоня, смотря в пол и, расширив зрачки, еле удержалась чтоб не заплакать. |
||
* * * В светло-жёлтом свитере, достающим до колен и только день назад по-новому подстриженный — коротко выбритый в черноте своих волос под зрелого Маяковского, восхищающий красивой формой ровной головы, которая теперь смотрелась как совсем безволосая, выкрашенная в смолу, Витя сидел на диване, всматривался в собственный подчерк и то и дело поднимал в стенку глаза, чтобы осилить полторы бутылки застоявшегося некачественного вина, влитые в него. Когда в дверь раздался одинокий звонок, он долго ставил ногу на пол и, наконец, утвердив себя на ногах, медленно пошёл открывать. На пороге стояла Соврасова, держа обеими руками перед собой сумку. Он улыбнулся: — За тетрадками ты пришла? Аня ещё раз изучающе посмотрела на его волосы, провелась рукой по шершавой голове и резко спросила: — Что ты такой? — Да ничего, — он мрачно отодвинулся и впустил её в квартиру. — У тебя не топят, ты не заметил? — спросила она и посмотрела на его белёсые коленки, резко выделяющиеся из-под длинного свитера. — Я... заметил, — немного весело отозвался он. Аня прошла в комнату и взяла тетради со стола. Витя долго вешал в коридоре её пальто, которое падало как на зло именно тогда, когда он собирался уже отойти и, войдя в комнату, с удовольствием отметил на себе её заинтересованный взгляд. Она не могла не усмехнуться: — Юный Гумилёв. Он улыбнулся и робко положил руку ей на плечо: — Опять этим утром бегала в парке? — По грязи... — улыбнулась Аня. — А я звонил тебе. Так и решил, что бегаешь. Они замолчали. Аня машинально начала пролистывать толстую тетрадь: — Мне сказали, что... — Кто сказал? — перебил он. — Да послушай ты, ребёнок, — она недовольно повернулась на него и решительно удостоверилась, что он окончательно пьян. — Мне сказали, что мы — дураки, и всё, что между нами... — Соврасова сделала паузу и, перевернув пару страниц, равнодушно продолжила, — всё, что между нами — пустое место. Она не заметила, как изменили её слова Витино лицо, и после некоторого молчания спросила: — По-моему, правда? — Да-а-а.... — протянул он, не понятно что выражая этим согласием. — Ты уже гласные начинаешь тянуть, совсем плохо, — резко сказала она — отлежись. — Гласные что... согласные — куда безнадёжней, вот когда шипеть начну, тогда и отлежусь... — Ты что так, Витя? — жалобно спросила она. — Дай, с кем не бывает. Аня посмотрела на портрет Мандельштама, висевший над пианино и с обидой прошептала: — Ничегот — о ты не можешь, Витюша. — Что, что, что? — вдруг всполошился он и, вскочив, повернул Анино лицо к себе. — Ничего не можешь... ты же знаешь, что только ты один и должен сейчас вытащить меня из всего этого, почему же не делаешь...? — Потому что боюсь. — А чего боишься? — с холодным интересом спросила она и повернулась к нему всем телом так, что он отчётливо видел теперь всю её. — Тебя боюсь. Что отпихнёшь сейчас же... вот так просто ни за что. За то, что без просу начал оберегать тебя. — Оберегать меня? — злая улыбка оживила её губы, — А ты умеешь так? — Я умею... только вместо меня кто-нибудь другой найдётся... За окном пошёл мокрый град, навязчиво шумел в окно ветер и упала её фотокарточка, поставленная без рамки на столе, опиравшаяся на стаканчик для карандашей. Аня слабо вскинула глаза и безынтересно посмотрела на перевёрнутый снимок: — Кто найдётся, Витя? — Аня, — вдруг возбуждённо начал он, — что значит преданность? — Когда везде и повсюду — за кем-то, — спокойно ответила она. — Когда предаёшься кому-то, — продолжил он. — Придаёшься до такой степени, что потом предаёшь. — И так бывает? — слабо спросил Витя, положа голову на стену и смотря на неё сверху. — Чаще всего. — Ну значит ты думаешь, я предам тебя? — Ничего я не думаю. А потом, есть же исключения. — Например. — Например, я — такое исключение. Витя приподнялся на локти и, вскинув брови, застыл в лице, ожидая её продолжения. — Есть человек, которому я предана, потому что это — единственное, что у меня есть. И если она распнёт меня собственноручно, я, пока не задохнусь в собственной крови, не спущу глаз с неё — буду смотреть и сторожить, как на дозоре. — Гнусно, — прошептал он. — Не верю, что ты сказал то, что подумал, — спокойно отозвалась она, смотря в окно. — Да. Просто ты описала в точности моё чувство к тебе. Аня с пренебрежением взглянула на него: — Это было о моём чувстве... — Знаю. Соврасова усмехнулась: — Герой... вместо того, чтобы знать, лучше бы запретил мне. — Что? Она вздрогнула и судорожная тень беспокойства прошла по её лицу: — Не могу я, не могу же так больше. Не по своей воле... ( голос её всё повышался) Знаешь ведь, что всё это можно остановить. — А если не по своей воли, то по чьей? Ты ведь любишь её, как мать, как сестру, как часть себя... вы ведь — единородное... — Что? — она вскричала и лицо её искривилось, а губы бесконтрольно задрожали. — Ну как это — не по своей воле? — сказал Витя, совсем не прореагировав на её возбуждённый тон. — Она — сильнее, она умеет подчинять. Это — её жизненная позиция. Она — машина, понимаешь? Она не умеет чувствовать, только видеть и анализировать... я — её хобби, а в жизни ведь нужно чем-то занимать себя. — Ну она не сможет так всю жизнь? — Смо-о-ожет, — почти истерично закричала Аня, — ты ничего не понимаешь... о какой помощи тогда говоришь? — А ты сама выкарабкаться не умеешь? — вдруг, как ошарашенный новой мыслью, спросил он. — Конечно нет, — тихо ответила Аня, и, нагнувшись вперёд, склонила голову, не в состоянии физически держать её. — Я что-то ничего не понимаю, Аня, — сказал он. — Что? — Я ничего не понимаю, — повторил Витя и на этот раз уже понял, что на самом деле солгал, что понимает всё, просто боится себе признаться, и она знает это, поэтому и переспросила, чтобы заставить его отказаться от бессилия своего. И всё же он меланхолично, на зло себе и ей повторил: —... ничего не понимаю. Аня вышла на кухню. Он слышал, как чиркнула спичка, как она поставила чайник и тихо открыла пенал, посмотреть, где чашки. Ему стало не по себе от того, что вот — вот потеряет её и неиссякаемое чувство ужаса и стыда за то, что кто-то тянет её к себе с непомерной силой, а он не может остановить, безграничное чувство злобы, какое бывает перед долгим ожиданием, посетило его. «Только бы не зелёный чай заварила », — подумал он и бездыханный упал на диван, загребая пальцами свесившейся руки распущенные нитки плетёного ковра. ... Она осталась у него до самого позднего вечера и когда он проснулся, то увидел перед собой её лицо, внимательно смотревшее и на него и, одновременно, как бы совсем сквозь. На полу стояла чашка, полная остывшего чёрного чая со смородиновым вареньем, Аня потирала ладонью её края и сжимала со всей силы пальцы ног в шерстяных носках. Витя заметил на себе два пледа, заботливо заворачивающих его, как в кулёк, это была конечно её заботливость: она всегда всё делала досконально и с любовью, чего он никогда не понимал до конца. В молчании они смотрели друг на друга. Гуськов заметил тоненькие складочки по краям её губ — маленькие морщинки, которые, видимо, когда она улыбалась, превращались в целый ряд. — Улыбнись, — попросил он. Она улыбнулась, больше от радости и облегчения, что он наконец что-то сказал, чем от желания исполнить его просьбу. — Слушай, — вдруг уверенно и, как будто, уже окончательно найдя в себе силы говорить, сказал он, — мы с тобой действительно дураки... и дурнее всё больше от того, что ничего не хотим и не можем объяснить друг другу. Мы поступаем подло по отношению друг к другу. Давай остановимся: мы не дети. Да, уже не те маленькие и неумелые в своих чувствах, что были двумя годами раньше. В конце концов, почему я не могу говорить с тобой напрямую, если ближе тебя мне нет никого. С кем же тогда ещё, если не с тобой? Я предаю тебя, я уже предаю тебя...ты права, Аня. Как многое в жизни заканчивается предательством, а самое страшное, что это — такая мелочь, которой мы даже не замечаем, она изнутри разъедает... как болезнь развивается, и только потом, потом, спустя некоторое время всё выходит наружу, как отрыжка и мы видим... мы смотрим на то, что вышло из нас и видим, что это было предательство, а во всех остальных симптомах мы ошибались, они были самообманом: нет страшнее паразита, нет неизлечимее этой заразы, чем — измена. Он перевёл дыхание и посмотрел на неё. Аня сидела бездыханная, на корточках, упираясь пальцами в пол... Витя вгляделся, с её опущенных ресниц быстро капали слёзы, она напряжённо закусила губы и тихо вздрагивала... — Продолжай, — попросила она хрипло, срываясь на полуслове. — Измена во всём, Аня. Мне нечего продолжать. Только, ты ведь и так знаешь, мы — прежде всего тем, что молчим, и не объясняем друг другу ничего, уже изменяем страшно... это же разрыв, Аня. Знаешь какой разрыв? На всю жизнь. Мы ведь если один раз изменим друг другу, от нас уже ничего не останется, и между нами — одна только пропасть, вёрсты, тысячи вёрст... а мы их никогда уже не сможем одолеть — они так и останутся между нами. — Я всё поняла, — сказала она, быстро вбирая в себя воздух и, глотая слёзы. Он пододвинул её к себе и детский плач, отчаянный и бессильный плач вырвался из её груди: — Сейчас я тебе всё расскажу... — сквозь громкие рыдания сказала она, — сейчас, только ты послушай меня. И не нужно пытаться понимать. — Нет, нет, нет, — зашептал он и прижал её к себе так сильно, что мышцы груди его заболели, — не сейчас, не сейчас, Анечка, а потом. Она кивнула и обвила руками его шею. — И я всё пойму... я всё понимаю, — наконец сказал он те слова, которые так давно теснились в его душе и он мечтал о том, что скажет их когда-нибудь ей. Настенные часы пробили 10 часов вечера. |
||
ГЛАВА 16 Соврасовой позднее пришлось пожалеть о том, что она ничего тогда так и не сказала. Есть такие моменты, на которые желательно рассчитывать, которые нужно видеть и понимать, что это именно та самая секунда, которой уже не будет. Аня не боялась упустить этого момента, она просто не думала, что его возможно вдруг когда-нибудь спохватиться. Она не думала и не понимала, что он — безвозвратен и лучше его не найти, потому что именно сейчас — град за окном, и часы тикают так громко, что не нужно будет думать о заполнении пауз, что именно в эту секунду человек готов её слушать и, может быть, его ум только сейчас и никогда больше поймёт всё... Но у них не было уже обратного пути. После того, как в ту пятницу она заплакала у него на плече, в комнате не было произнесено больше ни звука, только бой часов и ритмичное раскачивание маятника врезались в память, как напоминание о том, что время не просто идёт, а — уходит. ...Но ошибки тем и ценны, что они, в отличии от моментов, повторяются, и нам ещё приходится к ним возвращаться — здесь потерь окончательных не бывает никогда. |
||
У Агнессы оставалось ещё двадцать минут до отправления поезда. На дневном расписании светилось число — 31 января, последний день долгого и непонятного месяца уходил незаметно. «Сегодня все особенно некрасивы», — подумала она и поспешила отвести болезненно-разачарованный взгляд от девушки в военной шинели, принадлежавшей, по видимому, какому-нибудь не слишком прилежному в службе молодому человеку, потому что погоны на ней были содраны, что свидетельствовало о позорном наказании. Та, в свою очередь, впилась глазами в Агнессины сапоги и разглядывала их с видом человека, понимающего толк в искусстве. — Давай подержу сумку, иди узнай его прибытие в Москву, — послышался за спиной Машин голос. Миланская благодарна улыбнулась и, с усердием перевесив на Машу замшевую сумку, быстро отошла, направляясь лёгкой походкой к зданию вокзала. Дребезова узнала в девушке, стоявшей неподалёку и наведшей Агнессу на мысль о том, что люди сегодня — особенно некрасивы, свою давешнюю сокурсницу, и, как бы не желая заговорить и тем самым вмешаться в её проблемы, она быстро кивнула и отвернулась. — Сестра твоя? — спросила девушка в шинели. Дребезова усмехнулась и мысль о расставании с Агнессой исказила её лицо так, что она не смогла ответить на вопрос, а только непонятно вздохнула, раздражённая тем, что с самого утра этот день не милует её своими вопросами, теснящимися в голове безотчётно и, как всегда, навязчиво. Волосы Агнессы светились, как глянцевые, и пробор казался нарисованным. — В девять вечера — уже в Москве, — сказала она, близко подойдя к Маше, и холодно улыбнулась. Её Дребезова такой и хотела запомнить — непонятной, брезгливой в каждом своём наклоне головы, немного пугающей непредсказуемостью своего взгляда и неспособной вызвать никаких нежных чувств даже на прощанье. Всё в ней было — слишком, для того, чтобы сожалеть о разлуке, это «слишком» затмевало все человеческие чувства восхищением, на них просто не оставалось места, потому что всё в Агнессином образе останавливало: от стеклянно-испепеляющего взгляда черносливных зрачков и красивом изгибе губ, в особенности при улыбке, до скрещенных пальцев, на одном из которых виднелось малахитовое кольцо, бросающееся в глаза из-за её белокурых волос. Эти пальцы не мёрзли ни на каком морозе и теперь они даже не покраснели, хоть и были полностью обнажены и расслаблены, казалось ничто не может заставить их чувствовать. Пальцы — были одним из самых сильных в ней магнитов. — Мало была, — взволнованно сказала Маша. Агнесса безынтересно смотрела на неё своими монгольскими глазами, как бы пытаясь обнаружить в её лице какие-нибудь чувства. Но Маша оставалась неузнаваемо спокойной, только руки, которые она держала в карманах, нервно сжимали что-то и мяли между пальцев. — Летом увидимся, — сказала Агнесса, намекая как бы на то, что она знает о том, как тяжело Маше расставаться, и успокаивает её всем своим заботливым снисхождением. — Я значит папе позвоню сегодня, если ты не звонила... — задумчиво проговорила Дребезова, стараясь не обращать внимание на Агнессину прощальную дерзость, которая читалась в каждом её закусывании нижней губы и наблюдательном взглядывании на Машу из-под ресниц. Кто-то зашёл в поезд и задел Агнессу со спины, она резко обернулась и, в один момент взяв Машу за плечо, почти на неё не глядя, спокойно сказала: — Не нужно, только так отдаваться людям, будь спокойнее, наблюдай больше за собой: ты для себя живёшь, всё равно к одиночеству возвращаемся, так лучше от него не уходить совсем... — Я хотела как раз тебя об этом спросить, — тихо и уже с нескрываемой грустью сказала Маша. Миланская изучающим взглядом измеряла её лицо. — Напиши мне пожалуйста как можно больше в письме, — попросила та, — ты ведь будешь писать? Агнесса отрицательно покачала головой. — Я так и знала, что ты не изменишься до последнего момента, — сказала Дребезова и продолжила уже увереннее — береги себя, не нужно манипулировать своим организмом и в том числе душой: с природой не поиграешь. Ты ведь, я знаю, не остановишься, только смотри, всё-таки бережнее относись к себе... — и с улыбкой она прибавила, — ты ведь одна у нас на всех такая. Агнесса изменилась в лице, её взгляд вернулся к тому прежнему выражению неутомимой ненависти, с которым, она, похоже, не расставалась с минуты младенческого прозрения. — Мне не нужно себя беречь, — сказала она, снимая руку с Машиного плеча, — я не продаюсь... — Всё-таки у тебя отсутствует чувство опасности, мне страшно...очень, — Дребезова еле сдержала заволакивающие глаза слёзы раздражения. — Опять, Господи, я же не вещь, чтобы за меня бояться... спасибо за заботу, счастливо, до встречи, — с этими словами Агнесса, наклонив голову, посмотрела на Машу и успокаевающе улыбнулась. — Ты всё-таки напиши, или я... — она вопросительно посмотрела на Агнессу. — Ну не нужно. Пишут, когда не имеют надежду скоро встретиться... а я в июне приеду. Маша вспомнила, что Агнессина мама умерла в июне и, поэтому она всегда в этом месяце приезжала. — Хорошо, — сказала она уже стоявшей на ступенях поезда Миланской. Когда он медленно тронулся, Маша быстро попятилась спиной назад, как бы желая уйти, как можно быстрее проводить Агнессу и не смотреть больше на неё. — Всё-таки более по-человечески к себе относись, — крикнула она почти со злостью, и уже про себя добавила — до июня-то полгода ещё... Поезд мелькал уже последними вагонами, которые неслись, набирая скорость и пугая своим ровным, оглушающим грохотом. Маша вытащила руки из карманов и разжала ладони, которые всё это время судорожно сжимали то самое, чего она так боялась видеть у Агнессы. На её дрожащих руках, одетых в чёрные осенние перчатки Миланской, те, которые она дала Маше в Гатчине, ( Дребезова только теперь заметила что осталась в них) лежали полу разорванные, измятые и наполовину рассыпанные пакетики снотворного: она вытащила их впопыхах из сумки, не боясь и не заботясь о том, что Миланская без них не заснёт... Громко играло радио. — Мне кажется, что её вообще здесь никогда не было, — сказал кто-то, проходивший мимо. Маша обернулась на услышанные слова и сбросив пакетики на рельсы, быстро пошла прочь, уткнувшись полностью лицом в стойкий воротник, чтобы не слышать нечего, никого не видеть и не чувствовать никаких запахов. |
||
* * * Как и все сентябрьские девушки, Агнесса отличалась тонким сложением тела. Кость её была настолько стройна от природы, что тело казалось отлитым из стали. Она никогда не обладала физической силой, этим свойством владели исключительно её пальцы. Все её части тела были, казалось, защищены от физической нагрузки, а кожа обладала такой тонкостью, что, не смотря на упругость свою, опасалась порваться, когда вдруг мышцы её, не привыкшие к работе, напрягались. Естественность красоты её тела была столь ошарашивающей, что невозможно было воспринимать её, как принадлежность человеку... никогда не приходило в голову, что за этими ясно обрисованными силуэтами мышц крылась ещё и какая-то душа, нет, вся она вызывала только плотское чувство. И вообще, Миланская казалось одной сплошной неприкосновенной плотью. Она же сама никогда не задумывалась над собственной красотой. Без сомнений, каждый из нас приходит к моменту неизбежности самосозерцания, иначе откуда бы у нас вообще обнаруживались физические порывы. Но Агнесса и этим порывам была чужда. К своей естественности и неприкосновенности она относилась столь же трепетно, что в большей мере было бессознательным отношением, нежели — из предубеждений, сколь беспощадно она относилась к самой себе. И всё это конечно было связано и вытекало только из одной единственной истины: она принадлежала только себе одной. Миланская никогда не показывала никому красоту своего тела, её ноги были закрыты до колен всегда, грудь как можно больше стянута, всю её, будто вырывали с плотью от внешнего мира, плотно закрывающие наготу одежды... а это тело никогда не имело возможности вызвать к себе физической страсти, потому что оно никогда не было столь хорошо открыто и никто его не видел. Это всё было похоже на специально продуманную идею: если бы хоть один человек имел возможность взглянуть на обнажённую Агнессу Миланскую, то всякое чувство страха пред ней было бы побеждено чувством голода к прикосновению её. Не нашлось бы такого человека, который хоть на миг, не забыл бы в этот момент, что перед ним стоит непонятная, роковая, бездонная и неживая Агнесса Миланская — «ледяная», как её называли. Нет, обнажённой, даже Она была, как и все люди — обнажённой, не смотря на то, что тело её светилось каким-то восковым лучом, она всё же становилась Венерой и вся сущая плоть её манила и приковывала. И всё-таки тело — есть тело, куда не кинь, как не обращайся с ним, какой свет в глаза свои не напускай, а обнажённость его всегда больше чувственное влечение, чем душевное. И если бы Агнесса могла, она бы скинула его, чтобы от плотскости в её облике ничего не осталось, чтобы стать — неосязаемой. ... Но идеи здесь на самом деле никакой не было. Миланская считала, что всё, чем она обладает принадлежит исключительно ей и никто не имеет право на то, чтобы видеть это, прикасаться или тем более получать удовольствие. Не было ни одного человека, который имел право на то, чтобы смотреть на её плечи, потому что даже сама Миланская никогда этого не делала. Не существовало такой секунды, когда бы Агнесса вышла из-под собственного контроля и позволила себе продлить чьё-то прикосновение, больше, чем это позволяет секунда. Никто не давал права на неё, а она была созерцателем, ограждающим себя стеклянной стеной от всех людей. И эта стеклянная стена отражалась в её глазах. Единственное, чем Агнесса жертвовала это — руки, руки сильные, властные, уверенные и щедрые: на то они и созданы, чтобы давать... а забирать Миланская не любила, ей ничего чужого не было нужно. «Куда интереснее, чем воровать — кровь пить», — сказала она как-то. И с этого момента жизнь её была определена, а позиция этой жизни утверждена: не интересно брать, когда разрешают, но воровать ещё скучнее, значит нужно пить кровь, потому что за пролитую кровь мы ответа не несём! Нам не раз в жизни приходится жалеть своих тиранов, потому что они слишком много обязаны людям за собственную незабываемость. Миланская ненавидела людей, потому что их было слишком много!... |
||
...Поезд мчался с грохотом пересекая бесконечные, но отнюдь не однообразные железнодорожные полотна. Двери купе постоянно хлопали и, когда открывалась дверь вагона, шум поезда становился ещё громче и невыносимее, а свист тяги протяжнее и реже, Агнесса напряжённо щурила глаза, как бы пытаясь тем самым усилить своё одиночество, которое не имели права нарушать даже эти совершенно необходимые и естественные, но посторонние звуки. Держась одной рукой за поручень, другой она сжимала грудь, плотно сжав ладонь в кулак подмышкой. Агнесса всё больше к своему удивлению понимала, что очень любит поезда и, пожалуй, многое бы отдала за неделю, проведённую вот в таком мрачном, стремительно мчащимся, перерезающим беспощадно всё скрещения рельсовых путей, вагоне. Ей был важен даже не процесс этого и не ощущение скорости, а самое чувство оторванности от мира всецело и бесповоротно: пока не начинали мелькать дома, перроны и станции, не возможно было определить куда ведёт эта дорога, куда летит это железнодорожное полотно...иногда становилось страшно, потому что ощущение этого «в никуда» было очень остро и правдоподобно. Дружелюбные соседи позвали Агнессу выпить чаю с сахаром, но она с улыбкой покачала головой и поблагодарила их за заботу. Невозможно было жить ни одной секундой нормальной жизни, в то время, как провода железнодорожных столбов, беспрерывно вовлекающие зрение в обман своей чередующейся протяжённостью, всё сужали до бесконечности летящие рельсы, уносящие в неизведанную, слишком сильно влекущую, чтобы пугать, аномалию. главы 17-34январь 1997- май 98 гг.Шерен Людмила. |
||||||
copyright 1999-2002 by «ЕЖЕ» || CAM, homer, shilov || hosted by PHPClub.ru
|
||||
|
Счетчик установлен 14 ноября 2000 - 1360