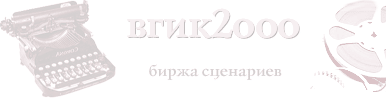
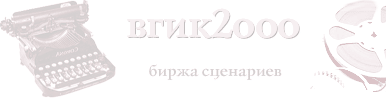 |
||||||
Воронков Дмитрий
|
||
Фома Петрович Пасюк открыл тюбик с зубной пастой, принялся чистить зубы. Делал он это бодро, с удовольствием, пока через зеркало не увидел за своей спиной любимую жену Зинаиду. Зинаида молчала, скрестив руки на груди. Фома предчувствовал скандал, настроение испортилось. — Опять этот из пятьдесят шестой звонил. Трубы у него, видишь ли, гудят. Совсем совесть потеряли. У человека выходной, семья, а они ему покоя не дают. Выходной человек должен дома проводить. С семьей побыть, вместе за стол сесть, выпить. Как же, любимый сын в музыкальную школу поступил. — Зинаида вздохнула. Только ты ведь вчера за это уже выпил. С дружками своими вонючими. Отпраздновал. Надрался как свинья. А не поступил ведь Санечка в школу то! А ведь из-за тебя, скотина, говорила тебе, что делать надо. Я как этого прохиндея увидела, сразу поняла. Другие подсуетились, а что, ихние лучше нашего? Так ты вперед эти деньги пропьешь. Бог ума дак не дал... |
||
Игорь Борисович репетировал. Человек с детства дисциплинированный, он в десять утра заставлял себя сесть за инструмент, но сегодня ему не игралось. Даже любимый им Шопен давался с трудом, не говоря уже о Скрябине или Листе. Что ни начинал, все шло с трудом, срывалось в начале, затухало к средине. Так и не сыграв до конца ни чего, Игорь Борисович посмотрел на свои пальцы. Он их любил. Были они совсем не музыкальные, обыкновенные, толстоватые даже с виду. Только ему одному было известно, сколько часов неустанной работы, тупой изнуряющей, понадобилось на то, чтобы сделать их тем, что они были сейчас. Он снова начал играть и вдруг понял, что нудный гул труб не даст ему поработать сегодня. |
||
Взбешенный Фома решительно надевал телогрейку. — И куда это ты собрался? Нет, ты не пойдешь никуда! — Зинаида схватила мужа за рукав, но тот отпихнул ее локтем. Фома открыл ящик с инструментом. — Ну, пойди, пойди нажрись со своими колдырями... В сердцах Фома вытащил из ящика маленький ломик, называемый в народе фомкою, замахнулся на жену. Она не испугалась, но на всякий случай закрылась руками. — Ну, ударь, ударь... В тюрьму сядешь, как папаня твой, ребенок без отца останется. Тогда уж точно музыке обучится... Фома зло заткнул ломик за голенище сапога, а Зинаида вдруг кинулась ему на шею со слезами на глазах. — Не ходил бы ты никуда Фомушка, ей Богу! Напьешься ведь опять. А пьяный ты, ой, нехороший, ничегошеньки ведь себе не соображаешь. Трезвый-то вот золотой человек, ничего не скажу, Фомушка... Фома стряхнул с себя супругу, вышел, хлопнув дверью. |
||
Мимо пивного ларька он пытался проскользнуть незамеченным, но Фому окликнули: — Фома! Возле ларька стояли двое мужчин. Один был худ, остер лицом, русые волосы его были круто зачесаны назад и лежали желтыми зубцами на воротнике выцветшего кителя без погон. Был он похож на прапорщика до срока уволенного из рядов. Второй, интеллигентного вида, был в пиджаке с ромбом на лацкане, в покрасневших глазах его виделась мудрость прожитых лет и разочарование жизнью. Толстая продавщица, матерясь, возилась с насосом. Из крана в банку капала пена и грязь. |
||
С накипающим раздражением Горелик вошел в ванную и снова попытался совладать с завывающим краном. Он крутанул вентиль, дергал кран за носик, что-то хрустнуло, и кран слетел с резьбы. Мощная струя горячей воды ударила в стену. От неожиданности Горелик побледнел, схватился за живот и сел на пол. |
||
— Фома, оглох, что ли?! — крикнул Прапорщик. — Мы же не так, мы по делу! Поди сюда! — Может быть, давления добавить? — присоветовал Интеллигент продавщице. Стрелки манометра нервно дрожали на пределе. — Куда уж еще, — огрызнулась продавщица. — Того и гляди, бак рванет, а он, сука, все пену цедит... — С гаечным ключом в руках она по пояс высунулась обильным торсом из окошка ларька. — Фома, миленький, может, вправду поможешь? Ни хрена я в этой долбаной технике не понимаю. То ли пива много в резервуары залили... — То ли разбавила сильно... — поддразнил ее Прапорщик. — Да ты-то бы уж помолчал, козел вонючий, — обиделась продавщица. — Тебе хоть нассы в кружку, ты один хрен вылакаешь, если градус есть... Фома вздохнул и направился к ларьку. |
||
Вода хлестала в стену, брызгала на побелевшее лицо Горелика. Ванная наполнилась паром, Горелик попытался встать, закашлялся, снова приник к полу, где пара было меньше, и, держась за живот, пополз к телефону. |
||
Из крана резво лилась янтарная струя пива. Фома вытирал ветошью черные руки. Продавщица сияла. — Вот уж спасибо тебе, миленький. Кто бы мне помог, кроме тебя. Руки у тебя золотые, не то, что у этих козлов. И безотказный ты, дорогой мой человек... — Она поднесла Фоме кружку с белоснежной шапкой пены. Прапорщик сглотнул слюну. Фома хотел отказаться, но глаза продавщицы светились такой благодарностью, что он не решился. — Пей уж, Фома, — сказал Прапорщик. — Заработал. — Любой труд должен быть оплачен, — мудро заметил интеллигент. Фома осторожно, чтобы не запачкать кружку грязной рукой, взял пиво, принялся пить. |
||
Зинаида варила суп. В кастрюлю обильно сыпались слезы. Она долго не брала трубку, когда зазвенел телефон. Но он не затихал, и ей пришлось подойти. — Алло... Да что вы привязались со своими трубами?! — взорвалась она вдруг она. — У нас у всех трубы гудят, а мы не жалуемся! И вообще, нет его дома, выходной у него, отдыхает он! — Зинаида швырнула трубку и завыла в голос. |
||
— Какие трубы? — лепетал в трубку Горелик. — Вы же дежурная служба... У меня авария, катастрофа... Трубка отзывалась короткими гудками. Горелик согнулся пополам и бросился к туалету. |
||
У ларька кипела жизнь. Мужики пили пиво, разговаривали, смеялись. Взгляд Фомы был пустым и стеклянным. Пива в кружках друзей осталось немного, возле ног валялась пустая бутылка водки. — Да пошли ты его на хрен! — убеждал Фому Прапорщик. — Подумаешь, нежный какой — трубы у него гудят. У меня трубы горят каждое утро, и башка гудит, и то ничего... — Я хотел продолжить свою мысль относительно Александра, — сказал не в тему Интеллигент. — Жена твоя, Зинаида, абсолютно права, между прочим. Они все так устроили, что чтобы русскому человеку получить что-нибудь, нужно или взятки давать, или горбатиться на них всю жизнь. А они только радуются, да ручонки потирают. — Кто, они? — не понял Прапорщик. — Сионисты, — пояснил Интеллигент. — А, евреи, — понял Прапорщик. — Я тоже жидов страсть как не люблю. Поставил бы их всех к стенке и из пулемета. Из КПВТ. Знаешь такой? Крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый. Пуля вот такая, восемнадцать миллиметров, и скорострельность охеренная. Как дашь — и в куски. А еще лучше собрать их в одно место, и из "Градов" Бах! Бах! — В боевом задоре Прапорщик сделал глоток и обнаружил, что кружка пива пуста. Он постучал в дверь ларька. — Эй, хозяюшка! Из-за двери послышался неразборчивый мат. — Ах ты, паскуда! — разозлился прапорщик. — Да если бы не мы, у тебя никакой бы торговли не было! И прибылей бы не было на пене, да на водичке сырой! Скажи, Фома. Что здесь до тебя было? Полная засуха. А сейчас во! — Он обвел рукой вокруг себя. — Жизнь! Ты Фома — бог! Жизнь создал! — Не даст она больше, — грустно констатировал интеллигент. — Лимит доверия кончился. Прапорщик задумался. — Слушай, Фома, а что, этот музыкант твой из пятьдесят шестой не бедно наверно живет? — Музыканты с таким именем получают большие гонорары, — сказал интеллигент. — Так, может, починим ему эти чертовы трубы, а Фома? Если у него бабок много, он хорошо забашляет. Времени то еще... — Прапорщик задрал рукав кителя, взглянул на руку, на которой не было часов. — В общем, есть еще время. Еще бы накатили... Фома безмолвствовал. |
||
Прапорщик позвонил в дверь Горелика. Никто не открыл. Он позвонил еще. — Куда он делся? — Должен быть дома, раз сантехника вызывал, — логично заключил интеллигент. Прапорщик приник ухом к двери. — Булькает чегой-то. Может у него с сердцем плохо? — Булькают, когда захлебываются рвотными массами, — возразил интеллигент. — А когда инфаркт, уже не булькают... — А чего он не открывает? А ну-ка, давай, Фома, может человеку помочь надо... Фома достал из-за голенища фомку. |
||
Багровый, потный, мокрый, Игорь Борисович сидел на унитазе. Спазм желудка не проходил. |
||
Прихожая встретила их клубами пара, вырывающимися из ванной. Фома механически, как автомат, прошел к ванной, взглянул внутрь, дернул дверь туалета, разом сорвал ее со шпингалета. Красный Горелик глядел на него выпученными от напряжения глазами. Фома отодвинул его в сторону, сбросив с унитаза, и принялся закручивать кран под бачком. Струя воды нехотя ослабевала, пока все не стихло. Игорь Борисович со спущенными штанами с восхищением, как на волшебника, смотрел на Фому. |
||
Пока Фома ставил на место сорванный кран, его друзья рассматривали комнату. Она была великовата для репетиций. Мебели здесь почти не было: только стеллаж с коллекцией севрского фарфора и, конечно, рояль. Им Игорь Борисович гордился. Это был не очень старый, но хороший инструмент с редким изысканным звуком. Рядом с портретами композиторов висел помещенный на палисандровую дощечку посмертный слепок руки гениального Александра Николаевича Скрябина. — Это чего? — спросил Прапорщик. — Рука Скрябина, — объяснил интеллигент. — Настоящая? — удивился Прапорщик. — Копия. Это были руки гениального композитора и пианиста. Он мог, например... В комнату вошел Горелик, уставился на гостей. — Вы ко мне, товарищи? — Вот тебе и раз, — сказал Прапорщик. — Люди жизнь ему спасли, сантехнику чинят, а он говорит: вы ко мне товарищи?! Горелик смутился. — Я вам, конечно, благодарен, но не совсем понимаю... — Да чего там понимать?! — возмутился Прапорщик. — Заплатить бы надо, хозяин. — Так... Так... — Горелик нервно зашагал по комнате. — И за что же я вам должен заплатить? За сломанную дверь? Что же касается крана, то, насколько я знаю, оплата сантехнику, даже дежурной службе, входит в мои коммунальные платежи. А я их плачу аккуратно... Прапорщик нахмурился. — Значит, ты так считаешь? — Они все так считают, — многозначительно заметил интеллигент. — И более того, продолжал Игорь Борисович, — я сейчас же позвоню вашему начальству, и вас немедленно уволят с вашей ответственной работы. У меня нет лишних денег платить бездельникам и пьяницам... — У них у всех лишних денег нету... — интеллигент подошел к роялю. А этот инструмент, между прочим, стоит дороже трех мерседесов... Он фальшиво заиграл ноктюрн Шопена. Игоря Борисовича передернуло. — Прочь! Уберите свои грязные руки! Немедленно прекратите бренчать! Интеллигент прекратил играть, побледнел и сжал зубы. — Это почему же? — Потому что вас близко нельзя подпускать к музыке... — Горелик решительно подошел к роялю, откинул полы халата, как фалды фрака, сел и заиграл ноктюрн. Фома закончил ремонт, открыл воду. Из крана потекла черная ржавая вода. |
||
Горелик закончил. — Вот так это должно звучать. И никак иначе. Друзья тяжело смотрели на него. — Значит, не заплатишь, жид пархатый? У Игоря Борисовича вытянулось лицо. — Что? Что вы сказали?.. — Жид, говорю, пархатый, — повторил Прапорщик. У Горелика помутилось в глазах. — Сволочь, хам, фашист, быдло! — он бросился на Прапорщика, размахивая кулачками. Прапорщик больно и сильно ударил его в нос. Горелик отлетел к стене и врубился в стеллаж с фарфором. Дорогие тарелки посыпались на пол вместе с разбитым стеклом. — Вы мне заплатите! — верещал Горелик. — За все заплатите! Я милицию позову! — Давай, — разрешил Прапорщик. — Зови. — Милиция! — закричал Игорь Борисович. — Милиция. Прапорщик удовлетворенно кивнул и снова замахнулся. Горелик сжался в стеллаже, прикрылся руками. — Уссался, гад, — сказал Прапорщик. Я тебя, сука, сейчас грохну здесь, и никто не узнает. И никакая милиция не поможет. В ментуре-то покуда наших побольше, чем ваших, я это точно знаю. Сказать чего хочешь? А?! Чего?! А?! не слышу? Игорь Борисович открыл было рот, но Прапорщик заорал вдруг внезапно прорезавшимся басом: — Молчать! И Игорь Борисович закрыл рот со странным звуком. — Давайте не будем ссориться, — вмешался интеллигент. — Сядьте, пожалуйста, Игорь Борисович... Колени Горелика тряслись неуемной противной дрожью. Он едва сделал два шага и упал на стол возле инструмента. — Руки, если можно, сюда, пожалуйста... — попросил интеллигент. Игорь Борисович положил дрожащие пальцы на полированную крышку рояля, отчего та немедленно запотела трепетным матовым облачком, повторяя очертания ладоней. — Руки, как руки, — задумчиво произнес интеллигент. — А какая музыка! — Да отбить ему надо эти ручонки, чтоб не выпендривался! — в сердцах предложил Прапорщик. Интеллигент, подумав, загадочно улыбнулся, глаза его засветились. Он взглянул на Фому. Тот стоял в дверях с фомкой в руках и стеклянным взглядом. — А ну-ка, Фома, — сказал интеллигент. Фома подошел походкой робота, перехватил ломик, поплевал на правую ладонь, размахнулся и изо всех сил обрушил фомку на крышку рояля. Если бы Игорь Борисович не отдернул инстинктивно руки, любимые им пальцы наверняка бы остались лежать на крышке, сочась кровавой юшкой из тренированных сухожилий. На крышке осталась глубокая вмятина, и рояль долго и возмущенно гудел, отходя от удара... Игорь Борисович сжал ладони в кулачки и спрятал их в области паха. — За что?! — он, глядел снизу вверх и еще сильнее вдавливал кулаки в заболевший опять живот. Его затошнило, рот наполнился кислой слюной железного вкуса. — За что?! — переспросил Прапорщик и нахмурил белесые брови. — Ты еще "за что" спрашиваешь? Прапорщик тоже сжал кулаки, двинулся на Игоря Борисовича: — Ты как играешь?! — Как? — дрогнувшим голосом, спросил Игорь Борисович. — Плохо? Интеллигент кашлянул: — Извините, Игорь Борисович, я вмешаюсь, с Вашего позволения... — Он взглянул на Прапорщика. Тот играл желваками, ел музыканта взглядом. — Играете вы очень даже... ничего, это общеизвестно, — продолжал Интеллигент. — Я, знаете ли, приобрел вашу пластинку, записанную в Копенгагене, и меня восхитила ваше прочтение Бартока и Кодаи. Играете вы прекрасно... — Да что ты перед жидом расписываешься?! — Прапорщик скривил лицо, прищурился, и выгнул шею вперед и вниз, сделавшись похожим на лебедя. — Фома! Фома пошевелил ломик на плече, не поняв приказа, потупил взор. — Зачем? — продолжал Интеллигент. — Зачем?! — Голос его срывался на рыдания, в глазах появились слезы. Сквозь них он глядел на присутствующих и остановил взгляд на Игоре Борисовиче. — Вы же сердце мне переворачиваете! Я после вашего Бетховена неделю дышать не могу! Зачем?! За что?! — говорил он страстно, так, что Игорю Борисовичу стало действительно стыдно за своего Бетховена. Он опустил глаза, они долго молчали, пока Интеллигент отдыхал от сказанного, и Игорь Борисович совсем уже подумал, что пронесло. — Пальцами своими жидовскими к тебе в душу лезет, — констатировал Прапорщик. — Какое он право имеет? Вот у себя бы в Израиле играли бы... — Он обернулся к Игорю Борисовичу: — Ложь пальцы! — Давайте разберемся, — тихо сказал Игорь Борисович. — Я ведь не в Израиле, я ведь в Москве родился. Вот здесь. — Игорь Борисович попрыгал задом на мягком стуле. — На Садовой. И отец мой здесь родился. Почему я в Израиле играть должен? — Да нет, Игорь Борисович, — сказал Интеллигент. — Вас никто в Израиле играть не заставляет. При тамошней безработице Вам, скорее всего, пришлось бы выбрать специальность поскромнее. Водитель такси, например. Игорь Борисович обиделся. — Я, между прочим, — сказал он, выступал с концертами в двадцати трех странах и везде имел успех. — Вот там бы и имел свой успех! А здесь нам не надо ваших сионистских заговоров! Здесь мы как-нибудь сами управимся. Ты подумал, сука, хоть раз, почему ты играешь, а не мы? Почему не я, или не он? — Прапорщик поглядел на Фому. Фома смутился, поискал ломик, взглянул на рояль. Такого инструмента он никогда не видел. В глазах его что-то ожило, он переложил фомку в левую руку, подошел к роялю и неожиданно для всех сыграл во второй октаве что-то из школьной программы по классу аккордеона. — Вы где-то учились? — спросил заискивающе Игорь Борисович — Мне кажется, у вас хороший слух... — А ты думал, — спохватился опешивший было Прапорщик. — Слух-то у него есть, только у вас выучишься, как же... — У сына его, Александра, вообще абсолютный слух, между прочим, — пояснил Интеллигент. — Это не я один, многие так считают. А в музыкальную школу его не приняли. Знаете, почему? — Нет, — признался Игорь Борисович. — Потому что фамилия директора этой школы — Фельдман. Не знаете такого? — спросил Интеллигент. — Я не очень хорошо знаю преподавательский состав музыкальных школ. Но если вы назовете номер, я мог бы помочь, если случилась несправедливость... — Вот! — ухватился Прапорщик. — Вот, у них, жидов, все так: помочь, посодействовать, оказать услугу... А нормальному человеку — хрен! Думаешь, мы дурнее тебя? Ну, скажи, думаешь ведь? — Ну почему? — смутился Игорь Борисович. — Нет, наверное... — Еще бы ты думал! Попробовал бы! Он, между прочим, — Прапорщик показал на Интеллигента, — в техникум мог поступить. Он же не поступил! Игорь Борисович взглянул на Интеллигента, — Почему? — Пьет потому что, — сказал Прапорщик, — как все нормальные люди. Ты же не пьешь?! А у Фомы вот батя всю жизнь по тюрьмам. Вот у тебя отец сидел? — Сидел, — сказал Игорь Борисович. Повисла неловкая пауза. — Ну, а насчет алкоголя я тоже не чужд, — признался Игорь Борисович, — Порой даже слишком... Я тоже люблю... — Ну да, — кивнул Интеллигент, — собираетесь после репетиции с дирижером и треугольником, берете портвейн, глушите в подъезде... — Интеллигент поморщился, — знаете что, не надо. Неестественно получается. Вы бы не юродствовали. Вы же прекрасный музыкант, один из тех, кто возвысил интеллектуализм до недостижимого уровня. Вот именно. До недостижимого, — сказал прапорщик, — Тьфу, жид... Ложь пальцы. — Позвольте... — Игорь Борисович пошел ва-банк. — Почему вы думаете, что я еврей? Отец у меня из поляков. Горелик. Дед из-под Львова. Украинец. Отец Борис. А меня назвали Игорем, В честь Станиславского. Почему же сразу — жид? — Слышь, Фома, — сказал Прапорщик Фоме, который, по-видимому, был украинцем. — Этот жидяра за хохла сойти хочет. Фома в задумчивости почесал ломиком затылок. — Похож он на хохла? Слышь Фома? Фома пожал плечами, отвернулся к окну. — И я же не виноват, — продолжал наступать Игорь Борисович, — что у меня талант. Это, конечно, не у каждого бывает. Это, если хотите от Бога... Прапорщик задрожал: — Бога не трожь! Вы, жиды, Бога нашего замордовали, храмы наши рушите! Талант, вишь, у него. Чего-то совпадений шибко много. И ум у тебя, и талант, и непьющий ты, и родители... А?! Почему у Фомы родители уголовники, сам тупой и пьет как свинья? Только ведь, Бог-то, он видит! Ты в зеркало на себя посмотри, хохол, твою мать, на шнобель свой погляди, на глаза свои жидовские! Погляди, погляди... — Он показал на трюмо. Игорь Борисович встал, подошел к зеркалу, но со средины пути рванул к окну с нечеловеческим хрипом, но запутался в полах халата, да и Фома оказался не по комплекции проворен, он успел перехватить музыканта. Игорь Борисович бился, как птица в сетях, на руках цепкого Фомы. — Я тебе что сказал?! — Заорал Прапорщик на Фому. — Я тебе сказал, чтоб ты смотрел? Щас бы он в окно сиганул, и все! — Он подошел и сильно ударил Игоря Борисовича по лицу, выбив два передних зуба. Игорь Борисович обмяк и сел на пол. И только тут он понял безумие своих намерений, а затем, безвыходность своего положения. Из угла рта сочилась сукровица, под глазом накипал, бился огромный синяк. Интеллигент брезгливо поморщился. — Зачем же так? Он же не артист, он музыкант. Листа он и без зубов сможет играть. К тому же, зубы ему завтра же какой-нибудь Наум Яковлевич вставит. — Так ты говоришь, не жид? — спросил Прапорщик. — Хохол, говоришь? Игорь Борисович открыл глаза. — По пашпорту я рушкий, сказал он высокомерно, хотя положение к этому не располагало. Прапорщик засмеялся: — Щего, щего? Русский? Ну, так сыграй-ка ты нам раздольную русскую песню. — Он подмигнул Интеллигенту. — А мы послушаем. Игорь Борисович сел на полу. В голове у него гудело, рот был полон крови. — Какую? — А самую патриотическую. Игорь Борисович с трудом встал, сел за рояль. Фома тяжело дышал ему прямо в левое ухо и от этого левая рука у Игоря Борисовича непроизвольно немела. — Ну, "Ши-и-рока страна моя родна-а-я..." — запел Прапорщик — Давай, давай! Игорь Борисович наугад взял несколько нот и заиграл, но Фома стоял рядом, поигрывая ломиком, и Игорь Борисович дважды сбился на первом куплете. — Вот так, — удовлетворенно усмехнулся Прапорщик. — Русский... Ложь, давай пальцы, сука... Игорь Борисович бухнулся на колени, обхватил ноги Прапорщика. — Пожалуйста, — Взмолился он, — не отбивайте мне пальцы! Я уеду! Куда, скажете, туда уеду! У меня тетя в Тель-Авиве! Только не отбивайте! — Ай-яй-яй, — укоризненно покачал головой Интеллигент. — Зачем же вы лгали, Игорь Борисович? Зачем? Вот если бы вы сразу признались, я, мол, еврей, уеду в Израиль, может быть, мы Вам бы и поверили. А немецкая пословица гласит: "Раз солгал — навек лжецом стал". Как теперь Вам поверить? Мы уйдем, а Вы в милицию побежите? — Не побегу! Ей богу не побегу! — Игорь Борисович даже перекрестился с испугу, чего с ним раньше никогда не делал. Интеллигент покачал головой. — Может, обе руки ему не отбивать? Отбить одну... — Нельзя, — сказал Прапорщик. — Полумера. — Ну, почему... — не согласился Интеллигент. — Отобьем, скажем, левую, чтобы он "Этюд для левой руки" играть не мог... — Он его и правой сыграет, — возразил Прапорщик. Фома безмолвствовал. — Ладно, все, — сказал Прапорщик. Решили. Он подошел к Игорю Борисовичу сзади, взял его за ватные локти, положил его ладони на крышку. — Давай, Фома. Пока Фома плевал на руку, Игорь Борисович дрожал в руках Прапорщика, а когда Фома занес ломик над головой и сильно ударил, музыкант отдернул руки и двинул Прапорщика локтем в живот. Тот, охнув, отлетел в угол. — Извините, ради Бога, я не хотел сделать вам больно, — испугался Игорь Борисович. — Может Вам деньги нужны? Прапорщик, громко матерясь, вставал с пола. — Я вот щас тебе покажу деньги... — Нет, нет, нет, простите — Игорь Борисович замахал руками. — Я не то хотел сказать... Я хотел сказать... Можно, я что-нибудь сыграю... Напоследок... — Он вытер слезы краем халата, оголив худые волосатые ноги. — Пусть играет, — сказал Интеллигент — что-нибудь из Вагнера. Игорь Борисович начал неровно, нервно, но постепенно пальцы сами вспоминали великую музыку, не зря он так доверял им. Интеллигент застыл, вздев очи к небу, а у Прапорщика слезы заблестели на глазах, к концу сонаты он, не стесняясь, разрыдался. Даже Фома задумался, опершись на ломик, поставленный на крышку рояля. Да, так Игорь Борисович еще никогда не играл. Вся боль и скорбь народная, вся радость и святость очищения его были в этой музыке. Он закончил пьесу мощным аккордом и опустил руки. Интеллигент, обхватив голову руками, глядел вверх, а Прапорщик смотрел на Игоря Борисовича влюбленными глазами сквозь выпуклые линзы слез. Игорь Борисович утомленно улыбнулся беззубым ртом. — У меня там коньяк ешть, — вымолвил он. — Тебя, жиденок, убить бы надо, — сказал наконец Прапорщик, — Убить, чтобы не... — он не находил слов. — Эх, что ж ты делаешь?! — Закричал он. — Ложь, с-сука, пальцы! Он стукнул кулаком по роялю так, что тот загремел всеми своими струнами. Игорем Борисовичем овладело странное равнодушие, даже теплота какая-то пошла по телу. Он положил пальцы на крышку и прикрыл тяжелые веки, ожидая почти спасительного удара. Кажется, он задремал даже, сидя у рояля и греясь усталым внутренним теплом. Фома поднял ломик над головой. |
||
Рука Скрябина медленно закачалась на стене и медленно упала на пол. |
||
В комнату тихо вошел большеголовый веснушчатый мальчуган. — Па, — сказал он. Тебя мамка зовет, пойдем домой. Мне мужики у ларька сказали, что ты сюда пошел. А мамка борщ сварила, еще за свеклой меня посылала, свеклы не было. Пошли домой, а? Фома опустил ломик, посмотрел на сына, на инструмент, рождающий волшебную улыбку, на великого музыканта, скорчившегося возле него, на своих друзей. В нерешительности он тронул кончиком фомки гипсовую руку Александра Николаевича Скрябина, и та, видимо, в результате скрытой трещины, беззвучно рассыпалась на куски. — Я сначала к мосту побежал, там мужики говорят, не видели, — продолжал мальчик. — Ну а тогда к "Милицейскому", там и сказали. А мамка говорит — непременно найди, а то чего он целый день голодный шляется. Не в силах решить возникшее вдруг перед ним противоречие между своими друзьями, пианистом, получившим призы в двадцати трех странах, своей любящей женой Зинаидой, наварившей ему вкусного борща, своим сыном, не поступившим в музыкальную школу, из-за неведомого ему Фельдмана, Фома, ухватив свой инструмент за концы, напрягшись, согнул его на шее крутой петлей, и, разогнув обратно, бросил фомку в угол. Она полетела по паркету, противно дребезжа, а Фома пошел к двери. — Ты чего, Фома? — спросил Прапорщик. — Куда ты? — спросил Интеллигент. Друзья устремились за Фомой. Когда Игорь Борисович открыл глаза, мужичков не было, только ветерок дул по ногам. Игорь Борисович встал, вышел в коридор. Там тоже никого не было. Он, как мог, прикрыл двери с изуродованным фомкой замком, подумал, придвинул к двери шкаф. Потом нагромоздил вокруг стульев, положил на них гантели, принеся их из комнаты. В репетиционной он, упираясь, как навозный жук, откатил рояль к окну, и, передохнув, распахнул створки. Внизу шумела Москва. Игорь Борисович сел и стал смотреть на свои пальцы. Он смотрел на них с любовью, какой не ведал, и не мог знать раньше. С дрожью вспомнив Фому, он ткнул пальцем в клавиши, пытаясь повторить фразу, сыгранную Фомою, но у него ничего не получилось, а получилась лихая мелодия, называемая в народе "Семь-сорок". Он играл все сильнее, с вдохновением, доходящим до ожесточения. Люди внизу поднимали головы и глядели вверх, откуда обрушивалась на ни в чем не повинную Москву мелодия еврейской народной песни. .Воронков Дмитрий
|
||||||
copyright 1999-2002 by «ЕЖЕ» || CAM, homer, shilov || hosted by PHPClub.ru
|
||||
|
Счетчик установлен 14 янв 2000 - 1398